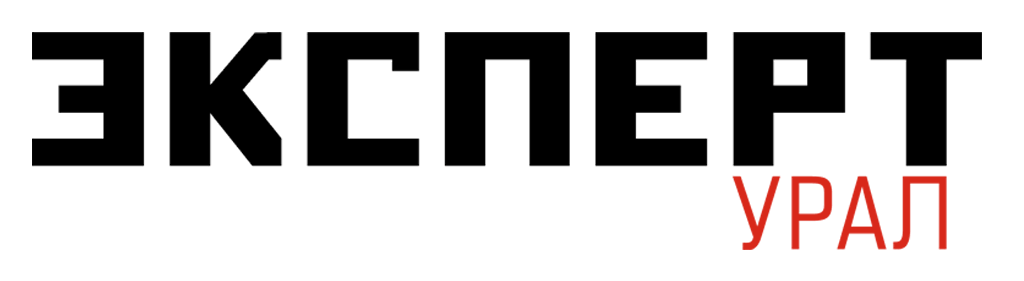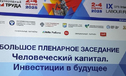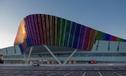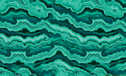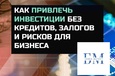Технологическому прорыву нужно придать скорость
Вузы берут ответственность за внедрение научных разработок. Как работает эта схема

Сергей Кортов: « Университет полного инновационного цикла берет на себя ответственность не только за знания, но и за продукт, который получается на основании этого знания» / Фото пресс-служба урфу
Достижение целей технологического лидерства сдерживает дороговизна финансовых ресурсов, низкий уровень поддержки инжиниринга и неравная конкуренция с дешевой продукцией Китая
Минэкономики опубликовало большую часть подзаконных нормативных актов для реализации закона «О технологической политике», подписанного президентом в декабре 2024 года. Об инструментах реализации государственного курса технологического лидерства «Эксперт-Урал» поговорил с первым проректором Уральского федерального университета Сергеем Кортовым.
Инструменты для новой реальности
— Почему возникла необходимость в новом инструментарии технологической политики?
— Действительно, у нас появился отдельный закон, который регулирует технологическое развитие. Это — необходимый ответ на новые вызовы. Долгое время экономика России развивалась в концепции глобальной экономической модели, в которой у каждой страны есть узкая специализация. За нашей страной была закреплена сырьевая компонента, и в соответствии с этим мы развивали преимущественно технологии добычи и первичной переработки сырья. В остальных областях мы использовали технологии из других стран. Но пандемия и санкционное давление показали уязвимость этой модели, и мы взялись за формирование новой конструкции. Сначала была принята концепция технологического суверенитета. В соответствии с ней по некоторому набору критических технологий нам нужно исключить зависимость от поставок из-за рубежа. А затем по направлениям, которые названы сквозными технологиями, мы решили претендовать на технологическое лидерство, то есть мы боремся за мировые рынки. Напомню, что критическими технологиями признаны 21, а сквозных технологий по нормативным документам семь. Соответственно, если мы признаем, что возникла новая реальность, то она должна сопровождаться и адекватным законодательством и управлением.
— В чем особенность нового инструментария?
— На предыдущем этапе одним из краеугольных механизмов была программа инновационного развития корпораций. С ее помощью удалось многое сделать. Крупные корпорации построили научно-исследовательские центры, корпоративные университеты. Теперь они могут обеспечить цепочку научных исследований и их превращение в новые продукты и технологии. Это хорошо, но корпорации все-таки имеют ограниченную область компетенций. Во-вторых, очень многие технологии являются междисциплинарными, они развиваются в интересах большого количества компаний и отраслей. Отдельные корпорации не хотят инвестировать в такие проекты. Все это очень сильно усложняет процесс создания инноваций.
У второй большой группы участников технологического развития — университетов есть научные знания, но нет соответствующей инфраструктуры, полномочий и компетенций. И им приходится выстраивать взаимодействие с бизнесом. Но создание нового всегда сопряжено с рисками. И на этом этапе возникает необходимость в инструментах, которые бы обеспечивали взаимодействие научно-исследовательских, академических институтов, университетов и компаний. И такие механизмы появились. В частности, это инжиниринговые центры при ведущих университетах, центры национальной технологической инициативы. Другой вопрос, что они заточены на организацию взаимодействия, а не на результат.
И наконец, нам так и не удалось вывести на должный уровень еще один элемент инновационного процесса — технологическое предпринимательство.
С 2025 года появились национальные проекты технологического лидерства. И сейчас наступает период поиска и создания системного инструментария, который бы охватывал все субъекты и все стадии инновационного процесса. В качестве одного из механизмов сейчас рассматривается научно-производственное объединение.
Но кроме эффективных и адекватных инструментов нам сейчас очень важна скорость. То есть все нужно делать не просто качественно, но и быстро. А для этого нужно стирать межведомственные барьеры, например, между бюджетным и внебюджетным финансированием, государством и частным инвестором. Все это выливается в огромное количество организационных, административных и правовых вызовов.
Три барьера
— Что мешает снимать эти ограничения, а какие факторы будут поддерживающими?
— У нас очень сильная роль государства, вокруг которого формируются кооперация. В ходе реализации национальных проектов мы начинаем выстраивать определенную инфраструктуру и инструменты.
Но есть проблемы. В стране не хватает инвестиций. А без этого инновационный процесс не тронется. С инфляцией, если она не выходит за уровень 10%, жить можно, а вот с ключевой ставкой 20%+ развивать технологии проблематично. В первую очередь из-за этого не двигаются передовые разработки и, конечно, тормозится инвестирование в новые производства.
Вторая проблема — это передача результатов научных исследований в индустрию. В этом направлении нам нужно плечо государства. В Советском Союзе эту роль выполняли проектные институты с опытными заводами. Сейчас вроде бы развиваются инжиниринговые центры, которые занимают это место, но в этой модели достаточно много рисков. А государство поддерживает эту стадию в минимальной степени. У нас есть инструменты, с помощью которых государство поддерживает инновации на уровне науки и опытно-конструкторских работ. Создание нового производства возможно в рамках программ Фонда развития промышленности или при помощи банковского финансирования. А стадия инжиниринга пока очень слабо поддерживается.
И наконец, я в качестве барьера вижу жесткую конкуренцию с дружественными странами, в частности с Китаем, на внутреннем рынке. Невозможно развивать отечественное машиностроение, если из-за рубежа идут аналогичные продукты в полтора-два раза дешевле. А все потому, что в Китае выстроена очень сильная и эффективная государственная поддержка. Поэтому нам надо либо закрывать границы, либо разрабатывать адекватные меры государственной поддержки внутри страны.
Да, с 2025 года в России введен национальный режим по государственным закупкам, но пока непонятно, как этот инструмент будет действовать. Национальный режим дает преференцию российским производителям при госзакупках, но в то же время надо понимать, что компании будут покупать по достаточно высокой цене по сравнению с тем, что можно приобрести на рынке. То есть нужен инструмент компенсации либо производителю, как в Китае, либо потребителю. Совсем отдавать этот элемент на откуп рынку, по моему мнению, не стоит.
Если мы не справимся с этими тремя ограничениями в ближайшее время, то, мне кажется, начнется очередной период пробуксовки: мы будем куда-то бежать, но это будет бег все замедляющийся, а потом переходящий в бег на месте.
— Какова роль вузовской науки в реализации нового курса технологической политики?
— Это достаточно чувствительный вопрос, потому что есть позиция, что задача университета — насыщать мир знаниями. В этой модели университет просто стоит на холме и созерцает, что происходит в долине, периодически выступая с экспертной позицией.
Есть вторая модель, которую исповедуют гораздо меньшее число университетов. В этом случае вуз берет на себя ответственность за внедрение результатов научных исследований. То есть он должен быть способен не только провести исследования, но и разработать расчетно-конструкторскую и технологическую документацию, а также обеспечить изготовление, испытание, производство опытных образцов, сопровождение и постановку на производство у индустриального партнера, организацию сервисов по сопровождению технологий.
Все это выводит университет на уровень проектного института с опытными производствами при университетах. Они могут быть внутри университетов, могут развиваться как отдельные юридические лица с участием университетов.
Но смысл в том, что такой университет берет на себя ответственность не только за знания, но и за продукт, который получается на основании этого знания. В радиусе его ответственности также воспитание специалистов, которые способны этот продукт производить, продавать, сопровождать его жизненный цикл. Это очень непростая роль. Университеты к ней пока не готовы.
Наш университет принял решение развиваться как инженерный вуз, как организация полного инновационного цикла. Это очень непростой выбор. Мы сейчас учимся, в том числе и у наших промышленных партнеров, как выстроить эту модель. Но мы уже видим эффект: если все развитие идет внутри организации, то барьеры существенно стираются. То есть разрыв между идеей и результатом удается сократить раза в два.
Учить людей и искусственный интеллект
— Что будет УрФУ в этом году демонстрировать на выставке-форуме «Иннопром»?
— Традиционно на Иннопроме мы больше участвуем в деловой программе форума и в меньшей степени в выставочной части. В рамках форума запланировано шесть мероприятий. Три из них посвящены как раз проблемам создания и передачи технологий как индустриальным партнерам внутри России, так и при международных взаимодействиях. Еще на трех площадках будем обсуждать подготовку инженеров и технологических предпринимателей.
Стратегия УрФУ в этом направлении сильно изменится. В этом году мы подняли вопрос о возобновлении инженерно-экономического образования как отдельного направления. Мы считаем, что рынку нужен специалист, который бы не просто владел знаниями в том или ином отраслевом направлении, а понимал суть технологических процессов. Без этого на предприятии делать сегодня нечего. Не стоит сильно рассчитывать, что все это сделает искусственный интеллект. Сначала этому нужно научить людей, и потом они обучат искусственный интеллект.
В выставочной части мы обычно представляем свои достижения в экспозиции Свердловской области. У нас есть мощный инженерный центр, который работает как раз в парадигме «от идеи до испытанных опытных образцов и опытно-промышленных партий». И один из этих результатов будет представлен на стенде Свердловской области, демонстрируя возможности обратного инжиниринга.
— Вы коснулись темы разработки новых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта. Как вы оцениваете перспективы этого направления?
— Сейчас на искусственный интеллект делается большая ставка, причем это ставка и политическая, и технологическая. А этот тренд зародился из-за демографических факторов. И в России, и в мире большой дефицит специалистов с нужными компетенциями. Трудоемкие типы производства и дальше будут испытывать системную нехватку кадров. И это не решится за год год-два. Депопуляция населения в мире — системная проблема. И единственный способ обеспечения экономического роста — это использование робототехники и искусственного интеллекта. Искусственный интеллект заменит рутинные операции по принятию решений, а робототехника заменит рабочие руки во многих отраслях, например, на складских комплексах, на вредном производстве, на эту же задачу работает беспилотный транспорт.
В этом будет задействован не только искусственный интеллект и робототехника, но и нейротехнологии. Их применение позволит создать быстрый интерфейс между человеческим мозгом и исполнительными механизмами. Это очень длительный процесс, но тот, кто сможет сделать устройство, которое считывает мысли и преобразует их в исполнительные команды, сильно выиграет. Это — еще оно направление повышения производительности современных экономических процессов.