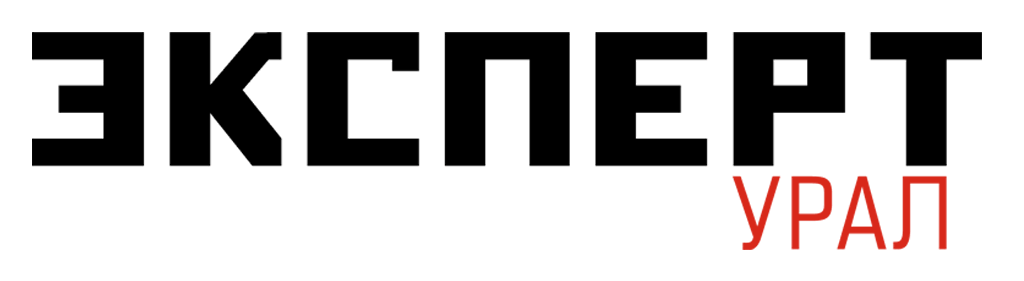Метафизика власти
Культура и власть
Рассуждения о правителях, народе и интеллектуалах на примерах из жизни муравьев и классической литературы
6 июня — День русского языка и день рождения Пушкина — широко отмечали в екатеринбургском Ельцин центре. Программу праздничных мероприятий закрывал показ и обсуждение фильма «Борис Годунов». История этой ленты непростая: режиссер Владимир Мирзоев рассказывает, что все было готово к съемкам в 1997 году, однако в последний момент инвестор отказался финансировать проект, испугавшись возможных параллелей пушкинского сюжета с тогдашним президентством Бориса Ельцина. Снять кино удалось только в 2010-м, а его премьера состоялась в 2011 году. Но проката лента практически не получила, поэтому до сих пор эта экранизация «Годунова» остается мало известной. О проявлениях архетипичных властных отношений в России в XVI — XXI веках мы беседуем с режиссером фильма.
— Владимир Владимирович, как менялись темы, которыми фильм коррелирует с современной общественной ситуацией, за последние 20 лет?
— 1997 год и 2010-й, кажется, две разные эпохи, но главные темы все те же: личность руководителя и народ, конфронтация внутри общества — принципиальных изменений не произошло, современная ситуация, скорее, обострилась. Она была острой и в 1997 году, но в обществе было пространство для политики. Общество и тогда было запутано, не всегда хорошо ориентировалось в происходящем, но это была публичная дискуссия, СМИ не занимались пропагандой 24 часа в сутки. Да, влияние олигархов на политику и медиа было мощным, но, по крайней мере, это была конкурентная ситуация.
Сейчас политики нет, она закончилась. Но не исчезла совсем — ручейками она разбежалась по всему обществу. Тут есть парадокс: наши охранители всеми силами пытаются уничтожить политику и политическую конкуренцию, думая, что ее можно отправить куда-то на Марс. В результате политика уходит на кухню, становится супом в кастрюле, ежедневной чашкой кофе — политика превращается во всё. Конфликты, которые обычно снимаются в политической борьбе и в политической дискуссии, теперь напрягают саму ткань общества. И сегодня это напряжение сильно ощущается.
— Пушкинский «Борис Годунов», скорее, о конкурентной ситуации.
— Это про ситуацию монархии, в которую вторгается конкуренция: у монарха появляется конкурент-самозванец.
— Ну, Годунов — так себе монарх: «Я подданным рожден и умереть мне подданным во мраке б надлежало; Но я достиг верховной власти... Чем? Не спрашивай»…
— Вопрос легитимности монарха, законности его правления — это отдельная большая тема. Но как только «мнение народное» ставит монарха под вопрос, считает его узурпатором — это уже достаточный повод для того, чтобы появился конкурент. Выпрыгнет, как черт из табакерки.
«Важную оппозицию в современном обществе формируют “потомки жертв” и “потомки палачей”: они по-разному видят советскую историю»
Но Пушкина интересует не сама политическая интрига, а метафизика власти: имеет ли в принципе право монарх быть монархом, если он не святой? Потому что всякий человек проходит длинный жизненный путь, совершает огромное количество малых и больших проступков, а то и преступлений. Его отношения с высшими силами как минимум непростые. Добраться до вершины властной пирамиды и сохранить душу, не замараться — задача повышенной сложности. И вот вопрос: может ли такой человек определять судьбу огромной страны, в которой живут миллионы? Вправе ли принимать единоличные решения, брать на себя ответственность? Разве может он знать, куда стране идти, какой путь в истории выбрать, если у него сбита этическая мушка? Пусть он искренне желает стране добра и победы, но ведь он может трагически ошибаться.
Обновление формы
— Вы говорите: метафизика, то есть предельные вопросы бытия, а не политическая конкуренция конкретной эпохи. Значит, эти темы должны быть актуальны вечно, и, по-моему, в пушкинском «Борисе Годунове» эта вечная актуальность проступает совершенно отчетливо. Тем не менее в кино вы осовремениваете драму.
— Есть хороший термин «актуализация», так обычно называют переодевание классики в современные одежки. Хотя в нашем случае это хитрое переодевание — у нас не одна эпоха, мы как бы совершаем скачки во времени.
Дело в том, что зритель реагирует не только на смыслы, но и на формы. Когда вы даете исторические декорации, исторический костюм (не важно, насколько глубокую антропологическую вспашку изображаемой эпохи вы делаете), человек зачастую начинает видеть только эту реконструированную поверхность. Такая форма не провоцирует глубинного понимания содержания. Зритель скользит взглядом по поверхности, и поверхность ему кажется до боли знакомой, понятной, поэтому он не идет вглубь, к содержанию.
Форма способна провоцировать ваше внимание или, наоборот, убаюкивать его. Вот представьте, что у вас полный набор исторических костюмов и декораций. Это значит, что у вас не может быть «догматической» камеры («Догма 95» — авангардное кинематографическое движение, идеологию которого в 1995 году сформулировали режиссеры Ларс фон Триер и Томас Винтерберг. — Ред.). Камеру придется успокоить, сделать классической, она вряд ли может быть ручной. То есть уже не получится сделать энергичный монтаж — гармония формы требует соблюдения всех элементов. Именно такая форма позволяет успокоиться и скользить по поверхности. Картина получается как знакомый будничный пейзаж, который воспринимается на автопилоте — у вас притупляется внимание. Интерпретируя содержание текста — неизбежно субъективный акт, — вы создаете уникальную форму. Оторвать одно от другого невозможно. Поэтому «традиционное искусство» — это оксюморон.
— Купюры в пушкинском тексте заметны.
— Они скорее вынужденные. Например, мы не стали делать двойной флэшбэк в сцене «Чудов монастырь», эпизод с Иваном Грозным выпал, сжали некоторые монологи. У нас не было возможности экранизировать полный текст, это бы слишком утяжелило кино.
— Тем не менее появляется немаленькая сцена со служанкой Марины Мнишек, которой в пушкинской публикации нет.
— Ее мы взяли из первой редакции «Годунова». Любопытно, что это была первая сцена, которую написал Пушкин. Но потом он ее убрал, я думаю, по эстетическим соображениям — она была рифмованной. А я подумал, что будет неплохо, если эта сцена появится в фильме. Служанка Рузя ведет свою игру, Марину начинает грызть червь сомнения, и тогда сцена у фонтана, разговор с Отрепьевым наедине становится драматичнее.
— А почему в кино не звучит последняя фраза, ставшая крылатым выражением, — «Народ безмолвствует»?
— Это не фраза — это ремарка. Ремарка не может прозвучать, одна дается автором для того, чтобы возникла та или иная мизансцена. И мизансцена безмолвия у нас есть.
Кстати, любопытна история этой ремарки. Пушкина, как известно, цензурировал лично Николай I, и, по легенде, Жуковский, который взялся отнести рукопись «Годунова» венценосному цензору, посоветовал Пушкину изменить концовку. Сначала она звучала так: «Да здравствует царь Димитрий Иоаннович» (эту реплику мы тоже даем в фильме). Но Жуковский счел, что равнодушие народа, его готовность принять любого правителя — это цинизм. Чтобы не дразнить царя, он предложил убрать эту фразу и поставить ремарку: «Народ безмолвствует». Увы, знаменитая ремарка — результат самоцензуры.
Так что мы не просто следуем за автором, мы следуем за двумя его редакциями. Во-первых, мы берем первоначальную версию: даем прозвучать фразе «Да здравствует царь Дмитрий Иоаннович», хотя она подана иронично в «рабочей семье». Во-вторых, даем фигуру умолчания, когда пораженная ужасом безмолвствует «интеллигентная семья».
Просвещение
— В 2011 году, представляя фильм, вы говорили, что эти мизансцены с народом важны — они точно подмечают отлученность нашего народа от истории. Что вы понимаете под этой отлученностью?
— В христианской концепции времени (она и есть современная) человек принимает решения ежедневно. Знаменитые слова Иисуса «живите днем сегодняшним» — это не абстрактное пожелание, это очень конкретная заповедь (см. Нагорную проповедь: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» [Мф. 6:34]. — Ред.). То есть современный человек постоянно живет на острие ежедневных решений: экзистенциально-личных, бытовых, политических. Реальность вокруг нас не статична, она все время меняется, и человек в этом потоке находится на острие. Представьте себе лодку, рассекающую волны: современный человек — на самом носу этой лодки, момент его контакта со временем и пространством истории очень конкретен и сиюминутен.
Но если мы посмотрим на наше политическое пространство, вообще на жизнь общества, то увидим трагическую невозможность принимать ежедневные решения даже по самым невинным поводам. Например, что нам делать с нашим городом: ломать старые дома или сохранять и реставрировать, уничтожать зеленые зоны города или они должны остаться и увеличиться, и так далее. Это ведь очень простые конкретные вещи, совсем не из области большой политики, но они о том, что зависит от людей в их родном городе. В результате конфликты с начальством становятся точками постоянного напряжения — люди понимают: все время происходит не то, чего они бы хотели, а они не могут влиять на решения. Это и есть банальный пример такой отлученности. В большой политике — это вопросы о начатых и неначатых войнах, об аннексии или мягкой силе. Здесь мы попадаем в ту же ситуацию: решения принимаются начальством, а народ от этих решений отлучен. Депутаты в парламенте представляют сегодня самих себя, это лоббисты высокого уровня, да и важных решений они практически не принимают. Вот и получается жизнь вне истории, жизнь вне политики, народ отдал свою судьбу в руки безответственной бюрократии, которую язык не поворачивается назвать «элитой».
— Брошу вам в ответ расхожую фразу: «Каждый народ имеет того правителя, которого достоин».
— А по-моему, эта максима архаична, она безнадежно устарела. О каком достоинстве народа можно говорить, когда мы видим откровенную манипуляцию его сознанием? Такое количество лжи, которое вылилось на наши несчастные головы в последние два года, не выливалось, наверное, за века. О каком здравом смысле, о какой ответственности и достоинстве народа можно говорить, если он доведен до состояния маниакально-депрессивного психоза? Так что этот тезис надо выбросить на помойку.
— Как выходить из этой истеричной ситуации?
— Как минимум нужно перестать фальсифицировать, перестать лгать, необходимо срочно возобновить общественную дискуссию. Люди должны слышать разные точки зрения: вернув в политику и медиа разнообразие голосов, мы уже встанем на путь выздоровления. Разумеется, выздоровление общества — это процесс небыстрый, но это будет серьезный шаг к здоровью.
— Мне в ваших словах слышится классическая просвещенческая линия. Пушкин, кстати, был против просвещенческой идеологии.
— Когда Пушкин «был против», он был еще молодым человеком, романтиком. И давайте не будем ссылаться на Пушкина как на истину в последней инстанции. Кроме того, это совсем другая эпоха, другое соотношение массы просвещенных и массы темных людей. Образованный класс в пушкинское время составлял от силы один процент населения. Сегодня, как почти во всех нормальных странах, мы имеем 5% интеллектуалов и 15 — 20% людей, которые живут в современности, их называют «русскими европейцами». В отличие, видимо, от «русских азиатов» или, в моей терминологии, «ордынцев». 20 миллионов — это огромная группа, три маленькие европейские страны.
— То есть сейчас просвещенческий проект возможен просто из-за численного соотношения в структуре общества?
— Конечно, он возможен, и ситуация очень зрелая — существует мощный слой, который социологи называют «контрэлитой».
— Видится, что активность контрэлит, если она вообще есть, не имеет внятной направленности.
— Для того чтобы она стала явной и направленной, нужно вернуть в страну политику. Тогда «русские европейцы», самая зрелая, активная часть населения, обретут свой голос и линию поведения. А сейчас эти люди находятся в маргиналиях, они в апатии, потому что отлучены от истории. Но они способны к рефлексии, они осознают свою депривацию, она для них повод для глубокой депрессии. Но и для духовной, интеллектуальной работы.
Конец «чистого искусства»
— Не напоминает ли вам эта ситуация апатии и маргинальности интеллектуалов времена советского застоя и поздний СССР?
— Да. На мой взгляд, одна из главных характеристик позднего СССР — интеллектуалы стали активно уезжать за границу. С начала 1970-х началась очередная волна эмиграции, многих выпихивали из страны, как Бродского, Войновича, Солженицына, Коржавина. Кто не уехал, ушел во внутреннюю эмиграцию — так возник андеграунд. Интеллектуалы перестали делиться своей энергией, перестали участвовать в жизни страны. Молодые люди (это я по себе хорошо помню), закончив вуз, никак не видели себя в советском пространстве и не считали себя его частью, они шли в кочегары, сторожа, дворники — куда угодно. Думаю, сейчас мы приплыли к тому же, картина стала похожей. Огромная часть интеллектуально активного населения, да и просто молодежь, которая хочет развиваться, уезжает за рубеж. И снова появилась внутренняя эмиграция. Это чудовищный итог четверти века реформ.
Можно привести пример из области этологии. Недавно было опубликовано интересное исследование про муравьев (речь об экспериментах новосибирского биолога Жанны Резниковой и ее коллег. — Ред.). В муравейнике, как известно, узкая специализация: есть муравьи-солдаты, муравьи-пастухи и так далее, и есть там муравьи-«интеллектуалы». Суть эксперимента такая: из наблюдаемого муравейника изъяли всех «интеллектуалов» и отсадили в соседний бокс. Так вот, осиротевший муравейник очень скоро погиб, разложился изнутри, не смог функционировать. По-моему, с Советским Союзом произошла примерно такая история. А мы все гадаем, почему он развалился с такой легкостью.
— В конце 90-х — начале 2000-х у интеллектуально-творческой элиты была возможность политического влияния: медиапространство еще не было закрыто и зажато. Более того, как мне видится, тогда уже сформировался общественный запрос на такое влияние. Но, как мы знаем, его не последовало. Творческая интеллигенция радовалась свободе, отсутствию цензуры, и, казалось, все ушли в чистое искусство, мало задумываясь о политике и широкой общественной ситуации.
— Это справедливый упрек, я его принимаю. Но у меня тогда было ощущение, что нужно помогать стране на своей территории, заниматься своей профессией. Я считал, что в политике есть умные, профессиональные люди, они тоже делают свою работу. И они достаточно ответственны, чтобы делать эту работу честно, строить на руинах Советского Союза свободную, демократическую Россию. Мне казалось, что я больше смогу сделать, сосредоточившись на театре, на кино, не распыляя энергию. Я считал, что политикой должны заниматься те, кто хочет ею заниматься. У меня никогда такого желания не было. Мне пришлось активизироваться по необходимости, когда я увидел, что ситуация очень опасная, и необходимо всеми возможными средствами предупредить общество об этой опасности. Когда политическое пространство стало уничтожаться, когда его стали бетонировать, тогда и возникло ощущение, что политика пришла и в культуру, и в искусство, и к тебе на кухню.
— Как и когда появилось такое осознание?
— Поворотный момент — это, конечно, дело «Юкоса» в 2003 году. Но острое чувство необходимости вступить в общественную дискуссию у меня возникло в 2005 году.
— И оставаться в прежней модели «только искусства» больше не получалось?
— В области театра этого не сделаешь: независимых проектов в принципе очень мало, а независимых проектов, имеющих широкую аудиторию и способных финансово выживать, — еще меньше. Как режиссер я обычно сотрудничал с государственными театрами. На мой взгляд, они финансируются обществом, но с точки зрения чиновников — это деньги министерства. А раз министерство считает, что это оно платит, то и музыку оно хочет заказывать. Значит, многое уже невозможно. Несколько лет назад у меня был проект в Театре им. Вахтангова, «Ричард III» — всего лишь Шекспир. Этот проект долго вынашивался, мы с Римасом (Римас Туминас — художественный руководитель театра им. Вахтангова. — Ред.) много и подробно его обсуждали. «Ричард» был включен в план театра, я поставил вешки во времени — это всегда очень строго, три месяца, от этой даты до этой. Но в какой-то момент проект отодвинули: сначала на месяц, потом на два, потом на три, и в конце концов он просто исчез из плана, растворился в вечности. Видимо, кто-то позвонил, не рекомендовал. И я знаю, что Туминас искренне хотел, чтобы этот проект состоялся.
А про кино и говорить нечего: я с министерством культуры даже не пытаюсь взаимодействовать. Все мои фильмы сделаны на частные деньги независимых компаний или спонсоров.
— А не вернемся ли мы в ситуацию второй половины 90-х, если ослабить государственное наполнение медиапространства и дать возможность, как и прежде, заниматься профессиональным делом исключительно в рамках «чистого искусства»?
— Последний период в жизни нашей страны создал совершенно другую интеллектуально-духовную ситуацию. Это был очень важный опыт для нескольких поколений людей искусства. Сейчас нужно быть включенным в актуальную историю, обязательно, это важнейшая развилка. И это понимают практически все. В этом смысле Владимир Путин и его силовое окружение сработали как хороший тренер: созданное напряжение стало мощной обучающей ситуацией. Для мыслящих людей и гражданского общества «новые дворяне» — это важный контрагент и спарринг-партнер. Он провоцирует нас на духовное усилие, создает драматургию, движение. Пока мы не видим волны обновления, но она обязательно придет.