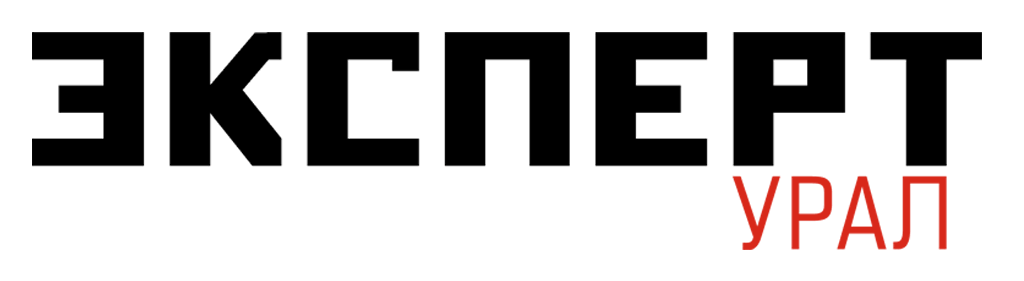Культура 1:2
Пермская государственная художественная галерея в конце 2012 года отпраздновала 90-летие двумя выставками. Первая, «Русское святое. Пермская деревянная скульптура», демонстрируя обычно запрятанные в фонде скульптуры, дополняла постоянную экспозицию и подчеркивала значимость одной из самых ценных коллекций музея. Вторая, «Философия общего дела», напротив, встраивалась в ряд разнородных экспозиций русского и советского искусства XX века.Ни одна из таких экспозиций в провинциальных музеях, как правило, не выглядит убедительно. По крайней мере, ни один уральский художественный музей не может похвастаться сегодня экспозицией русского искусства последних лет ста: выставки показывают это искусство то с одного бока, то с другого, обычно работы заперты в хранилище, места для них нет. Никто не решается убрать из музейных залов разномастные полотна западноевропейских художников XVII — XIX века, полагая, что они-то обладают несомненной художественной ценностью и, видимо, нашептывают современному зрителю нечто важное. Произведения 1930 — 1990-х годов в запасники отправляют с легкостью. В этих обстоятельствах любая выставка напоминает, что история искусства — это всегда сочинение с рассказчиком, точкой зрения, сюжетом, хитросплетениями правды и вымысла. Пермская галерея решилась на эксперимент, для провинциальных музеев необычный, — пригласила для работы со своей коллекцией куратора со стороны, рискнула и выстроила драматическую и не скрывающую фигуру рассказчика экспозицию.
Жизнь по книжкам
Давид Бурлюк в своих «Воспоминаниях футуриста» привел страстный комментарий Федора Сологуба по поводу политизированности русской литературы и отзывчивости писателей нуждам страны: «… Жизнь врывается, жизнь мешает, прерывая творчество даже самых трудолюбивых, это и хорошо, а то бы бумаги не хватило, типографии были бы завалены работой, не зная отдыха…». Понимание жизнестроительного характера искусства могло бы быть одним из ключей к непростому искусству XX столетия. Куратор выставки «Философия общего дела» в Пермской государственной художественной галерее Валентин Дьяконов, арт-критик газеты «Коммерсантъ», как раз и сосредоточил внимание публики на том, как функционировало искусство в обществе, как художники жили некой общей жизнью со страной и, придерживаясь различных художественных позиций, искали баланс между интересами искусства и социума.«Философия общего дела» — выставка о русском и советском искусстве 1910 — 1980-х годов, история о работе художника в обстоятельствах, предполагающих его отзывчивость к социально-политическим событиям эпохи, выражение определенной политической и идеологической позиции, и в то же время — самодостаточность произведения искусства и право художника на личное переживание мира. Эти обстоятельства создавались не только волей неких властей, но самим ходом жизни. Подобранные в коллекции музея произведения представили на выставке существование в каждую эпоху этих двух позиций художников и их возможные пересечения.
В первом приближении замысел выставки отсылал к книге Владимира Паперного «Культура Два»: в ней история советской архитектуры (и шире — культуры в целом) была рассмотрена в контексте двух чередующихся моделей. В эпохи «культуры 1» общество решается на эксперименты, выстраивание горизонтальных связей и новой этики, в эпохи «культуры 2» стремится вернуться к традициям. Гипотеза родилась, когда автор, «сравнивая архивные стенограммы 40-х годов с тем, что писалось в газетах в 70-е, с некоторым ужасом обнаружил, что история повторяется». Сюжет выставки наследует самому принципу выявления механизмов выстраивания связей человека и общества: одни эпохи благоволят индивидуальностям, другие требуют жить ради долга, общества, общего дела. И в любые времена есть люди, позволяющие себе любые стратегии.
Однако и названием, и одним из сюжетов выставка уводила также к учению Николая Федорова, и от зала к залу зритель сталкивался с механизмами памяти и переживанием искусства и музея как механизмов «воскрешения отцов», тех немногих механизмов, что нам доступны. На выставке ловко связывались история музейного здания, коллекции Пермской государственной художественной галереи, образ музея как социального института, история и социология искусства, размышления о его функциях и удовольствии, которое получает художник от работы, а зритель — от произведения. И на все ложилась печать утопичности.
Рама для искусства
Первый зал выставки был уподоблен куратором «ментальной карте» и представлял все сюжеты выставки в их переплетении. Здесь рядом оказались конструктивистская картина Александра Родченко из Екатеринбургского музея изобразительных искусств и «Делегатка» 1937 года Юрия Пименова: они демонстрировали разные способы говорить с обществом о современности. На напоминающем канделябр постаменте стояли скульптуры обнаженных и балерин — образы «горения», жертвенности красоты. В скупых текстовых комментариях куратор не отказывал себе в ехидстве по поводу любви к балету советского общества и того, как вся эта красота рождалась муштрой. На другом подиуме, силуэтом схожем с Мавзолеем Ленина, — скульптура «Работница» Людмилы Чугаевой, что напоминало о еще одной важной функции ленинской усыпальницы — быть трибуной. Заурядная футуристическая картина Виктора Пальмова, лучшие произведения которого были созданы уже после революции, бодростью и экстравагантностью контрастировала с меланхолией и поэтичностью «Конца игры» пермского художника Анатолия Филимонова.Для выставки картины были одеты в одинаковые простые, темного дерева рамы. Для показа скульптур были сколочены подиумы, формы которых задавали символическое прочтение ситуации экспонирования. Все произведения рифмовались друг с другом, но многообразные интертекстуальные связи, явленные вполне наглядно и без особого труда считываемые, не делали выставку похожей на ребус. Она сама становилась художественным текстом, в котором свое понимание истории искусства не отменяло личного, живого переживания отдельных произведений, иногда, впрочем, насмешливого, как в случае с наивными работами вроде «Красноармейская казарма — школа культурного быта» Файрахмана Аминова (1933) или тройного портрета Аллы Пугачевой кисти Елены Романовой (1977). Продуманное экспозиционное решение «провисало» только в случае с неудачным помещением некоторых произведений в затененные места и порой чрезмерной плотностью развески, лишний раз напоминая о том, как мал главный художественный музей Перми.
Пейзаж или трагедия
Во втором зале вместе показывались красочные пропагандистские лубочные картинки времен Первой мировой войны («У союзников французов битых немцев полный кузов, а у братцев-англичан драных немцев целый чан»), вырезанные Алексеем Денисовым-Уральским из поделочных камней аллегорические фигурки воюющих держав — примеры патриотического искусства, и натюрморт Ильи Машкова «Виноград со статуэткой» начала 1940-х годов — произведение, говорящее о «художническом снобизме», красоте живописи, увлеченности культурой XVIII столетия в дни, когда мир охвачен войной.Через несколько залов тянулась стена с высказываниями из дневников, писем и мемуаров, представляющими умонастроения того или иного времени. Так, нервом 1917 года стали слова художника Михаила Нестерова: «Не верилось, что живешь и свидетельствуешь столь дивным по своей огромности событиям, что исчезают царства, возникают новые, а ты себе как ни в чем не бывало пьешь, ешь, озабочен своим весом, желудком и прочим». В эту «ленту времени» были встроены «Туркестанские яблоки» Игоря Грабаря 1920 года, «Пейзаж» Татьяны Мавриной 1940-х и другие камерные произведения, свободные от идеологических установок власти, не откликающиеся на социальные проблемы эпохи. Некоторые художники в советское время, как и сегодня, сохраняют за собой не столько свободу говорить о личном, сколько возможность говорить на том языке, который для них важен и допустим, возможность создавать произведения, обращенные как к событиям современности, так и к вечности.
В экспозиции вес небольшого пейзажного этюда Анатолия Тумбасова «День угас» (1960-е) оказывался сопоставим по значимости с картинами о строителях метро и работе разведчиков. Впрочем, например, Михаил Авилов в «Напали на след» (1936) попутно решал, как и Тумбасов, свои живописные задачи, создавая образ волшебного зимнего леса, в котором впору найти не врагов родины, а героев сказок.Интересным оказалось пространство искусства 1960 — 1970-х годов. Архитектура Пермской галереи такова, что все залы невелики и свободно перетекают один в другой, поэтому в какой-то момент зритель упирается взглядом в героев «Автопортрета с рабочим А. Штейниковым» Тимофея Коваленко (1976). Потом следуют «Озеро. Кафе» Натальи Нестеровой (1976), «Гнев и скорбь. Вьетнам» Ярослава Николаева (1960-е), «Пинг-понг» Германа Егошина (1962). Все это примеры фигуративной живописи, в которой сквозь идеологически выверенный сюжет или в какой-то степени нейтральный живописный мотив прорывается боль сочувствия или иная сильная эмоция. Советские художники активно используют приемы модернистской живописи, но решение живописных задач оборачивается не столько стремлением к художественной свободе, но свидетельствует скорее о долге художника перед обществом. На выставке те художники, кто с разной степенью мастерства изображал индустриальные стройки, тружеников колхозов и жителей Севера, и те, кто писал цветущие сады, старинный фарфор и сцены повседневной жизни, — все они всегда говорили об общезначимом преобразовании мира или языка искусства, о своей личной утопии. И считали, что этот разговор важен для общества.
Я в прошедшем времени
Завершалась выставка инсталляцией Елены Елагиной и Игоря Макаревича «Философия общего дела»: когда после осмотра произведений 1900 — 1980-х годов зритель поднимался по лестнице на второй этаж музея, он читал надпись из неоновых трубок «Искание смысла есть // Искание идеи общего дела». От надписи тянулись светодиодные «гирлянды» к белым библиотечным столам в форме гробов. На выкрашенных в белый этажерках — хаотичный запас книг воспоминаний художников и исследований о художниках XX столетия. Пространство этой библиотеки — белое, храмовое, в том числе буквально (Пермская галерея по-прежнему расположена в Спасо-Преображенском соборе).И тут взгляд глаз, скользя по сводчатым потолкам и монотонно белым стенам в отблесках зеленого неонового свечения, напоминающего свет стрелки компаса, упирался в надпись на противоположной стене — «Будущее станет // возвращением прошедшего к жизни». Именно на нее можно было бросить последний взгляд, спускаясь вниз, возвращаясь к основной части выставки и буквально — к произведениям прошлого.
Двусмысленное послание о воскрешении прошлого, готового обернуться единственным образцом для будущей жизни, связывает выставку с днем сегодняшним. Размышления о советском искусстве ставят вопрос — как много советского в нашей современной жизни, какова современная социально-политическая ситуация и какой реакции художников она требует. Советское искусство его современниками описывалось через теорию соцреализма, понятие о тематической картине или через конфликт советского искусства и искусства модернистского. Итогом становилась жесткая схема, она могла представить желанный когда-то образ искусства, но не то, каким оно было. То и дело возникает сегодня вопрос: как показывать советское искусство, как рассказывать о нем зрителю, помочь увидеть не только идеологический характер образов, специфику сюжетов, но и человеческий смысл. Иначе выставки советского искусства останутся образовательными проектами или аттракционами. «Философия общего дела» преподнесла зрителю возможность посмотреть на советское искусство разных десятилетий как на сложный и целостный феномен, не герметичный, но открытый к прочтению. А также показала, почему опыт этого искусства может волновать современного зрителя. Современный человек понимает: доверие к утопии превращает ее в ад. Но утопия согревает самой возможностью мечтать.
Сегодня размышления об искусстве и обществе слишком связаны с рынком искусства или потреблением искусства. Даже язык, на котором говорят об искусстве, — это нейтральный язык науки, сводок с полей музейной работы, коммерческий язык аукционных торгов или газетный язык сенсаций. Разговоры о духовных смыслах искусства утыкаются в стену сюжетов о современной религиозной жизни, полной опасных конфликтов. Контекстуальное искусство не мыслит такими общими категориями, как человек вообще, общество вообще. Выставка в Пермской художественной галерее показала возможность остаться с искусством один на один, право куратора, как и зрителя, рассказать личную историю. Возможно, отсутствие внятных постоянных экспозиций искусства XX века в российских музеях — это не только вопрос музейной экономики, но и свидетельство того, как редко музей готов брать на себя ответственность в осмыслении по-настоящему сложных вопросов искусства.