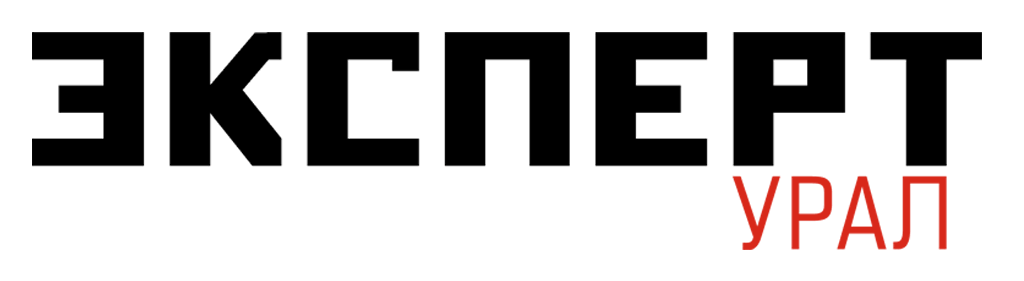Биеннале без границ
Скучные выставки могут быть индикатором общей жизненной скуки. Но это не искусство обязано стать понятнее народу, а люди должны больше интересоваться друг другом.Однажды в Праге мы с приятелем зашли в галерею с барочными парадными портретами — и минут через десять сбежали от добротной
живописи, старых мастеров, биографий живших некогда людей. Сбежали от скучного однообразия искусства, прославлявшего сотню-другую лет назад деятелей чешской истории. Типичное искусство времени, предложенное в больших количествах, требует колоссальной работы души, сравнимой с прогулкой по гигантскому кладбищу, где под схожими надгробиями похоронены мечты, амбиции, потребности в конструировании индивидуальности. Пятая Московская биеннале современного искусства, закрывшаяся 20 октября, напомнила выставки, на которых даже хорошие работы художников, собранные вместе, превращались в набор типичного. Но если во времена классического искусства знакомые публике темы и художественные приемы определяли его своеобразие, в новое время в работе художников ценится индивидуальность взгляда на мир, художественного языка. При этом индустрия репрезентации искусства все чаще превращает личный взгляд художника в его личное дело.
Московская биеннале современного искусства проходила, ясное дело, в Москве, однако выставки ее параллельной программы можно было обнаружить в Екатеринбурге и Мурманске. В Уральском филиале Государственного центра современного искусства работала выставка «Ура, Урал!». Ее название позаимствовано у поэтического цикла Луи Арагона, созданного под впечатлением от поездки на Урал в 1932 году. Куратор Илья Шипиловских рассказывал на выставке историю о том, каким Арагон мог бы увидеть современный Урал: что осталось от эпохи 1930-х, как мы сегодня на нее смотрим и что строим сейчас. Реконструкция невозможного показала — победил частный человек, отодвинув на второй план осознанные и постоянные политические действия, труд и религиозный опыт. Художники захвачены переживанием пространства и времени как пространства и времени их частной жизни. Реальность оспаривается, но ей не ищется альтернатива. Причем «здесь и сейчас» в Москве и в Екатеринбурге воспринимается по-разному.
Комфортные помещения
Основная выставка пятой Московской биеннале «Больше света» развернулась в выставочном зале «Манеж» рядом с Кремлем. Манеж, построенный при Александре I, превращенный в выставочный зал при Хрущеве, восстановленный после большого пожара 2004 года, как многие примечательные места новой Москвы 2000-х годов (Бахметьевский гараж, Царицыно, музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница») является итогом реконструкций, воссоздания, достраивания, приспособления к современности и т.п. В приуроченной к биеннале выставке «Off Modern: руины будущего» в Stella Art Foundation (Москва) были представлены инсталляции и документация работ художников и архитекторов, отказавшихся от реконструкции, стирающей историю, и пытающихся действовать в предложенных обстоятельствах. Например, раскрашивать яркими прямоугольниками типовое жилье унылых районов Тираны или снимать об этом видео, как это сделал художник Анри Сала. Этот подход предполагает поиски утопии не в сооружении нового, а в попытках поселить себя в существующее; он не делает людей счастливыми, более того, отказывает им в счастье, но подчеркивает ценность жизни.Неподалеку от Stella Art Foundation, а по меркам Москвы — и от Манежа, на Садовом кольце, находится знаменитый Дом Наркомфина архитектора Моисея Гинзбурга (по сходному проекту Гинзбурга в Свердловске построен один из корпусов комплекса домов Уралоблсовета на Малышева, 21). Это один из тех памятников советской авангардной архитектуры, что представлен, вероятно, во всех путеводителях и монографиях об авангарде. Дом тихо стареет на задворках бизнес-центра «Новинский Пассаж»: он покрыт трещинами и червоточинами, штукатурка осыпалась, стекла запылились, из углов растут деревца. Между тем на еще одной биеннальной выставке в Мультимедиа Арт Музее «Утопия и реальность? Эль Лисицкий, Илья и Эмилия Кабаковы» показывают фотографии макетов интерьеров, созданных Эль Лисицким для этого дома. Гуляя по московским биеннальным выставкам, зритель современного искусства может смотреть на ампир и авангард из обустроенных и вылизанных выставочных залов как на то наследие, которое лучше разглядывать в макете. Это и современному искусству придает специфический характер: оно воспринимается не как экспериментальное или жизнестроительное, а как очередной муляж современности.
Выставка «Больше света» задумывалась как гимн искусству, его возможностям находить для каждого почву под ногами. Поскольку современное искусство чувствительно к месту экспонирования, приходится смотреть на историю Манежа и задаваться вопросом: у кого сегодня больше амбиций — у того, кто сносит и отстраивает заново, добивается современного лоска, или у того, кто балансирует между аутентичностью наследия и требованиями комфорта?
Но вопрос поиска «золотой середины» — это вопрос не столько про здания, сколько про выбор между большим проектом «как на картинке» (хоть в жизни, хоть в способе организовывать выставки или создавать произведения) и новыми гуманистическими проектами, учитывающими потребности конкретных людей. Все чаще говорят, что искусство не понятно народу. На биеннале проблема в другом — людям все чаще не интересны другие люди и то, что они делали и делают. Мы очень похожи друг на друга в своих индивидуализме и уникальности.
Свет искусства
На выставке «Больше света» куратора Катрин де Зегер я не могла отделаться от ощущения, что хожу по лавке колониальных товаров. Эти товары обладают символической ценностью и определенным качеством, и я как зритель одновременно приобщаюсь к миру искусства, подтверждаю статус современной мыслящей горожанки и что-то там переживаю. Хотя лавка — слишком мелко в случае с Манежем.Путешествие по выставке, через прорезанную видеопроекциями темноту нижнего пространства и по залитому светом верхнему залу, в котором демонстрировались масштабные сентиментальные и греющие сердце произведения Сун Дуна, Панамаренко (Panamarenko — псевдоним бельгийского художника Хенри Ван Хервегена) и других художников, скорее, напоминало прогулки по музеям под открытым небом. В таких музеях зритель знакомится, как правило, с чем-то глубоко укорененным в культуре, в традиции, с чем-то общезначимым если не сейчас, так в прежние времена. Когда-то так строили дома и мельницы, храмы и амбары. Увиденное на биеннале напоминало о промыслах, о музеях народного искусства, рукоделиях. В какой-то момент ты понимаешь, что современное искусство стало чем-то вроде городского промысла. Оно не имеет таких жестких правил, как ткачество павлодарских платков, плетение корзин или роспись тагильских подносов. Оно критично, индивидуально и т.д. и т.п. Более того, оно стало личным делом каждого. Но личное дело каждого, похоже, превратилось в своеобразную индустрию.
Вся биеннале постоянно показывает художественный мир как производство. Художники с их болью, надеждами, сказками, яркими образами и пластическими находками становятся игроками большого спектакля — большой выставки. Даже со столь поэтической и умело сформулированной куратором темой, само описание которой способно всколыхнуть мечты понять себя, нащупать свой путь, вырваться из пут предлагаемых тебе цивилизацией ролей в свою собственную повседневность. Художники стали частными людьми с частными высказываниями. Можно ли их услышать в Манеже? Возможно, я как зритель-читатель выставки потерпела неудачу.
На выставке работы сцеплены друг с другом. Например, скарб из родительского дома, педантично разложенный Сун Дуном (инсталляция «Не выбрасывай!» 2005 года — сотни тазов, журналов, туфель, полотенец и других предметов, что оставлялись в доме на худшие времена), и вещи, превращенные Ириной Затуловской в холсты (серия «Не редимейд», 2002 — 2012). Политический туризм, когда сидя у телевизора или с журналом можно следить за акциями протеста в разных уголках мира и сочувствовать протестующим или сравнивать их активности (инсталляция Тома Моллоя «Протест», 2012), перекликается с образами большого путешествия, которое есть сама жизнь (как, например, в инсталляции Альфредо и Исабель Акилисан «Прохождение: проект другой страны», 2013). Тут развертываются захватывающие трагедии: в инсталляции Фариде Лашаи «Когда я считаю, есть только ты... Но когда я смотрю, остается всего лишь тень...» (2012 — 2013) в полутемной комнате круг света с заданностью механизма скользит по принтам, созданным по мотивам «Бедствий войны» Франсиско Гойи. Напечатаны только места действия. Когда картинка оказывается в круге света, на ней проявляются образы Гойи, тела, подвергнутые насилию, а за пределами светового круга зритель может рассмотреть только изысканное пространство пейзажей и улиц, в котором случаются представленные Гойей сцены. Эти пустые изящные пространства Лашаи/Гойи тоже отлично рифмуются с пространством Манежа.
Если направить больше света, видны мутации искусства. Еще Вальтер Беньямин, один из тех, кто создавал теорию современного искусства, писал о том, что функции искусства меняются от ритуальных к развлекательным. Если абстрактное искусство или экспрессионизм были попытками сопротивления этому процессу, сегодня люди приходят на выставки, чтобы образовываться и развлекаться. Искусство становится потерянной переселенцами в города традиционной культурой. Но сами произведения создаются художниками — людьми со своими чувствами и взглядами на мир. Как в общем хоре услышать голос человека? Как от искусства перейти к художнику и при этом увидеть выставку?
Становится правилом, что сами по себе произведения художников захватывают, интересны, а выставка оставляет в недоумении, заставляет бежать на выставки персональные или идти в очередной раз смотреть Тициана в классический музей. Ты видишь работы любимых художников, например Виктора Алимпиева, но большое событие в мире искусства в целом становится травматично. В мире, где превалируют ценности частной жизни, личное оказывается невозможным в публичном пространстве не потому, что этого пространства нет, а потому что те, кто им управляет, делают ставку на масштабные действия, большие события, не давая простора для человека, который хотел бы побыть наедине со своими мыслями.
Попытки оглянуться
Большим событием биеннале стала выставка «Реконструкция», созданная Еленой Селиной в фонде «Екатерина». Это попытка представить историю художественной жизни Москвы конца 1980 — 1990-х годов. В силу некоторых причин это и рассказ по истории русского искусства той эпохи. Идея восхитительная: показать те важные выставки и выставочные пространства, те художественные инициативы, что видятся сегодня прекрасными снами об эпохе энергии, искренности, драйва, эксперимента. Первая часть проекта реализована во время биеннале и представила произведения и выставки до 1995 года включительно. Когда челябинская галерея «OkNo» пару лет назад делала серию выставок уральских художников, активно работавших в 1990-е, выяснилось, что их работы порой не сохранялись, затерялись, разрушены. Московская выставка представила это с еще большей очевидностью. Инсталляции, объекты и перформансы можно сегодня только реконструировать или представить в документации. Все опыты можно классифицировать, предъявить одномоментно в стерильных выставочных залах. Тут уже не льется рекой водка, как это было, если верить воспоминаниям очевидцев, в галерее на Трехпрудном. Тут не случается тех экспозиций, что смущали не немытым стеклом и отсутствием этикетки с именем художника, а провокативным характером. Тут уже все не знают друг друга и пытаются говорить только об искусстве. Откровения связаны с преодолением забывчивости, так как те, кто подрос к 2000-м годам, мало что знали о прошлом десятилетии, а свидетели эпохи давно ее не вспоминали. Зрителю остается доверять взгляду куратора и расставленным на выставке акцентам, воссоздавать дух эпохи по книгам и видеозаписям, корректировать свои представления по истории искусства в соответствии с летописями.Образ реконструкции оказывается таким: ты идешь по чьим-то следам, по пути теряя объект. Ты замещаешь то, за чем идешь, своей историей. Это происходит с новыми выставочными пространствами Москвы, со зрителем, что пытается понять куратора большой выставки, с историей нового московского искусства — и с путешествием Арагона на Урал в 1932 году.
Вместо утопии
Впрочем, куратор екатеринбургской выставки Илья Шипиловских выступил честнее: он отталкивался от текста Арагона, но всматривался в современность. Как и Катрин де Зегер, он тоже интересуется «искусством глубокого и радикального настоящего» (из пресс-релиза выставки «Больше света»). Даже созданное лет двадцать назад искусство осмысляется им исходя из опыта настоящего дня. Поэтический текст Арагона стал поводом и источником методологии: выразить характер эпохи и искусства эпохи через ряд образов, звучащих рефреном (тема чудесного и странного важна на выставке, как и тема зрелища и наблюдения); выстроить выставку как путешествие, в котором фрагментарность видения важнее полноты описаний; найти героев в противоречивых обстоятельствах. Даже художники, обратившиеся к культурному наследию 30-х (Татьяна Комова, Артем Пискунов, Катя Рейшер) или пытающиеся представить Урал таким, каким его «увидел» Арагон с товарищами (Наталья Резник имитировала архив и взяла интервью у дочери выдуманного спутника Арагона), подчеркивали — их работы имеют больше отношения к тому, как мы сегодня смотрим на эпоху, чем к попыткам показать человека того времени.Открывается выставка красивым пейзажем Нижнего Тагила Геннадия Горелова, а в самой дальней ее точке расположена комнатка-реконструкция избушки геологов — декорация к демонстрируемой тут же фантастической книге Валерия Корчагина об исследовательской экспедиции конца 1940-х, участники которой погибли в жутких обстоятельствах. Но у этой избушки — слюдяные окошки, за которыми дивный теплый свет и эфемерные пейзажи (инсталляция Ивана Снегирева и Владимира Селезнева). Эта возможность перспективы — если не в будущее, то в прекрасное — радует зрителя. Заключенный в названии выставки «Ура, Урал!» энтузиазм первых пятилеток, когда жуть барачного быта и работы на износ оправдывались надеждами на будущее без частной собственности, рифмуется с современными футбольными кричалками, в которых любой провал преодолевается верностью команде и ожиданием будущих побед. С таким будущим уже не связаны радикальные социально-политические и антропологические изменения.
Открытием выставки стала стена портретов Леонида Луговых. В 1990-е Луговых был наперсником, моделью и персонажем местных художников, создававших видеоарт и перформансы. В 2000-е он все больше ходил по выставкам, на лекции или располагался на улицах Екатеринбурга и рисовал так называемые (им самим) хромосомные портреты. Это обычные портреты, что рисуют уличные художники: более или менее похожие на модели, не без шаржированности. Но в них присутствуют несвойственные элементы (их можно принять за декоративное оформление листа или подпись художника). И при всей характерности таких портретов они существуют в ином контексте: в теории хромосомной живописи Леонида Луговых комментарием к биотехнологиям, как их представляет обычный российский горожанин, становится усмешка, неверие в технологии как инструмент преобразования жизни к лучшему.
В свое время Луи Арагон писал, что в будущем человек создаст такие машины, что ребенок сможет управлять целым заводом. Это избавит человека от тягот труда. Сегодня технологии — это анекдот, сбой в утопии. Вместо заводов появляются магазины и выставочные залы. Один художник пытается всеобщий язык уличных рисованных портретов (тот же промысел) индивидуализировать, другой обращается к коллажу или инсталляции. Но личное легко встраивается в классификации. Что странно, так сама позиция сильного классификатора возможна в иерархически устроенном обществе — я стала часто слышать, что из искусства исчез большой заказ, в этом все дело. Исчезла идея, что личное должно вплавляться в коллективное. Взамен наблюдается пребывание в общем пространстве и времени здесь и сегодня. Выставки «Больше света» и «Ура, Урал!» диагностируют неразрешимый конфликт между индивидуальным взглядом на мир и обобщающими историями.