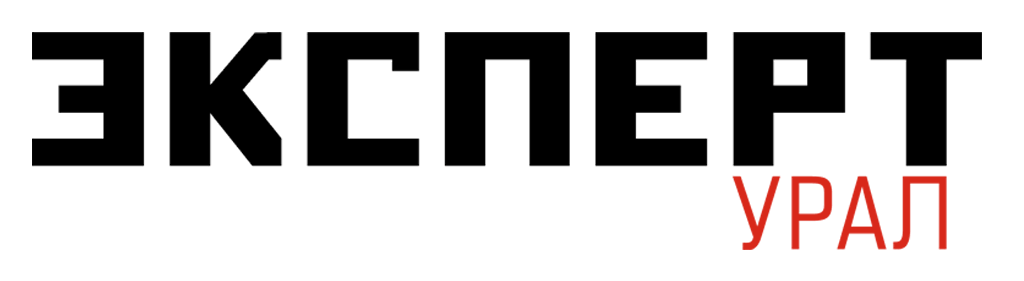Уроки кройки и литературы
 Литература формирует язык, на котором мы говорим о реальности. Школьные уроки призваны помочь ребенку этот язык освоить. Поэтому разговор о таком скучном и для многих травматичном мире, как школа, — это всегда разговор о том, какому языку и миропониманию научатся наши дети.
Литература формирует язык, на котором мы говорим о реальности. Школьные уроки призваны помочь ребенку этот язык освоить. Поэтому разговор о таком скучном и для многих травматичном мире, как школа, — это всегда разговор о том, какому языку и миропониманию научатся наши дети.Почти все, кого я знала ребенком, в начале 1990-х после краха СССР сменили род занятий. Радиоинженеры стали охранниками, медсестры продавали яблоки, военные пошли в таксисты. Потом они создали тот мир всевозможных благ, что мы имеем сегодня: парикмахерские, кафе, магазины, ремонтные мастерские, учебные центры. Человек, ищущий себя, свое место в жизни, родился на руинах общества, в котором жизненный путь предписывал кто-то иной — государство, партия, мировоззрение. Однако набор нынешних жизненных сценариев оказался так же скуп, как и лет тридцать назад. Призрак эффективности разъедает систему ценностей, национальную ли, корпоративную. Общество выбирает между прагматизмом и умением получать удовольствие от исследования непростоты окружающего мира. Кто станет жертвой нынешнего прагматизма: школа с ее традициями или российское общество несколько десятилетий спустя? Об этом наш разговор с филологом, исследователем истории детской, советской и современной литературы, преподавателем Уральского федерального университета Марией Литовской.
Поиски точки опоры
— Мария Аркадьевна, вы работаете с русскими и иностранными студентами. С какими отличиями восприятия сталкиваетесь?— Совершенно отчетливо видна разница в культурах. С иностранными студентами мы читали текст «Англичанин Павля» Драгунского. Это история про мальчика, который выучил за лето одно английское слово. Приходит в гости, его спрашивают, чем занимался летом, он говорит, что изучал английский язык, ужасно устал. Его спрашивают, как сказать «здравствуй», «раз, два, три» и другие простые слова, но он их не знает. А что знаешь? Знаю, как по-английски будет Петр, вот завтра приду в класс и скажу Петьке Горбушкину: «Пит, дай мне ластик» — он упадет.
Вопрос был, зачем Павлик говорит, что все лето изучал английский язык. Студенты разных национальностей по-разному его поведение объясняют. Китайцы говорят, что он хвастается, потому что хочет казаться лучше, чем остальные. Южнокорейцы стоят на том, что он хочет поднять свой статус. Ребята из Австрии, как один, не сомневались: Павля не научен правильным способам выражения того, что с ним происходит, он не знает, как назвать то, чем он занимался. Американец возражал: Павле кажется, что он изучил язык, раз выучил одно слово. Это свойство маленьких детей, они всегда думают о себе лучше, чем они есть на самом деле. Большая часть этих студентов в Россию приехала две недели назад, они исходят из тех схем, которые вложены в их головы для интерпретации текстов в их культурах.
— … и этим занимаются филологи. Что ждет сегодня российское общество от людей вашей профессии и чувствуете ли вы эти ожидания?
— Про филологов как таковых, полагаю, общество думает мало. А вот про преподавание филологических дисциплин говорят последние месяцы много и, что называется, на разных уровнях. Период тяжелый: перестраивается структура школьного и вузовского образования, и филология — та дисциплина, которую кардинальным образом собираются менять в школе. Этого не было с середины XIX века: уж что-что, а подход к преподаванию литературы оставался одним и тем же. Меняли тексты и их интерпретации, но это как раз непринципиально. Сейчас собираются объединить русский язык и литературу, сделать общий предмет отечественная словесность, в результате что-то должно кардинальным образом улучшиться. Что должно улучшиться, я, честно говоря, до конца не понимаю, потому что неясно, что реформаторы ожидают от этого нового предмета.
Наша область в этом году вступила в безумный, на мой взгляд, эксперимент по улучшению качества проведения ЕГЭ по обязательным дисциплинам: русскому языку и математике. Для школы это значит, что учителей оценивают по тому, как их дети сдают обязательный экзамен. Три раза в год одиннадцатиклассники пишут контрольные пробные ЕГЭ, потом работают над ошибками, а в завершение сдают подлинный единый госэкзамен. Времени на совершенствование экзаменационных ответов немного. Откуда его отнять, если один учитель преподает русский и литературу? Соответственно, изучение литературы в старших классах, особенно в одиннадцатом, постепенно сходит на нет. Люди не прочитывают определенный набор текстов, который соответствует нашей культурной идентичности. Тем самым мы, во-первых, как совершенно справедливо заметила Наталья Дмитриевна Солженицына, отказываем детям в том, чтобы они познакомились с величайшими достижениями культуры того народа, к которому они принадлежат. Во-вторых, лишаем их навыка чтения и понимания сложных текстов. Этот навык был очень сильной стороной отечественного образования.
ЕГЭ, конечно, только проявляет тенденцию к упрощению, которая отчетлива в современной школе. Я говорю про школу, потому что мы все кричим, что дети не читают, что мы утрачиваем литературоцентризм. Но баталии ведутся все больше вокруг того, какой идеальный всеобщий список книг для чтения составить, какие книги лучше, бумажные или электронные, и не нужно ли ограничить детям чтение электронных. Но литературу потому и сделали в свое время главным искусством, что это искусство было самым доступным: текст стихотворения Пушкина хоть в электронном виде, хоть в бумажном, хоть на плохой бумаге, хоть на прекрасной — один и тот же. Литература стала тем искусством, вокруг которого группируется общество, потому что она сама словами все объясняет и потому что текст можно репродуцировать сколько угодно раз: он от этого качество не меняет. А идеальный список невозможен — чтение слишком личное занятие. Так что лучше, видимо, учить читать разные типы художественных текстов.
— Все чаще говорят об утрате умения читать и понимать тексты.
— Тут дело обстоит неважно. Относиться к чтению как к особенному занятию, доставляющему радость и удовольствие, учат малышей в семье. Это происходит не всегда: культурность сегодня именно и только с чтением не соотносят. Потом идет начальная школа, где учат азам: читать быстро, пересказывать, рассказывать по картинкам, отличать, где говорит автор, а где персонажи, разговаривать о книгах. Если этому не научиться — не справиться с программой средней школы. Тогда в старшей ты в лучшем случае перейдешь на «Классику в кратком изложении». В лучшем, потому что при нынешнем раскладе — без мотиватора в виде выпускного обязательного экзамена — школьную литературу можно учить, вообще не читая, даже учебника.
А чтение — это, конечно же, работа, которую надо уметь делать. Чтобы читать трудные тексты (а русская классика такова) и получать от этого удовольствие, надо много уметь. Нужно, во-первых, читать быстро: романы-то длинные. Во-вторых, знать хотя бы в общих чертах, как устроен художественный текст, быть в состоянии улавливать параллельно развивающиеся сюжетные линии, да много что еще. Если читать не научен, то, возможно, если очень замотивирован, как-нибудь справишься. «Гарри Поттер» тому недавнее подтверждение: все ровесники прочитали — и мне надо. Но чаще всего, к сожалению, ребята на уровне седьмого-восьмого класса читают так, как читают тексты на средневыученном иностранном языке: знаешь почти все слова, грамматику тоже более или менее, проблема в том, что не получаешь никакого удовольствия. Слишком много сил уходит на элементарное понимание, и текст литературный превращается в текст учебный.
Иногда кажется, что мы выращиваем поколение нечитателей совершенно сознательно, хотя при этом много кричим про утрату литературоцентризма.
— А кто стоит за этим «мы»?
— Я не знаю, кто конкретно. Местоимение здесь заменяет неопределенно-личную конструкцию. Понимаю, что можно кого угодно обвинить: от загадочной мировой закулисы до плохой учительницы. Но, подозреваю, искать надо не кого, а что. Есть устойчивое стремление к комфорту, включающему в себя культурное упрощение, с одной стороны. Есть ориентация на чужую культуру — с другой.
Уникальное свойство нашей школы в том, что она учила людей читать сложные художественные тексты. Мы хотим прагматизировать школу, а с точки зрения прагматики навык чтения Толстого и Пушкина кажется ненужным.
Мир кувырком
— Но умение читать — прагматическая вещь.— Прагматическая вещь — умение читать (то есть понимать и быть в состоянии запомнить и пересказать) тексты инструкций. Не думаю, что перед властью стоит задача всех превратить в людей, которые умеют читать только инструкции. Но когда мы ориентируемся на прагматическую школу, мы должны иметь в виду следующее: Финляндия, например, где, как считается, сейчас одна из самых качественных школ, — это страна, в которой литературное наследие — не самая сильная область. У финнов последовательно воспитывают другие вещи: пространственное мышление, адаптивные навыки и т.д. У них, грубо говоря, другое главное искусство, поэтому они и воспитывают людей, которые умеют его ценить, понимать и работать с этим главным искусством. А мы пытаемся скопировать модель, которая не встроена в наш социум, потому что у нас другие традиции. Пусть, конечно, школа учит писать заявления и читать инструкции, а также улыбаться при встрече и грамотно обмениваться приветственными репликами, но когда мы хотим традиционное российское образование, основанное среди прочего на идее воспитания рефлексивной личности, перевести в прагматический ряд, ученик оказывается в крайне сложной ситуации рассогласования ценностей. Решили, что надо воспитывать людей эффективных, которые сориентированы на цель, а не на процесс. Но русская литература формирует людей, сориентированных на процесс размышления о жизни, а не на достижение практической цели. Классика предлагает одни ценности — мы хотим сформировать у детей другие. Журнал «Даша» с Буниным не согласуется ни по каким параметрам, но понимать журнальные тексты несравненно проще. Еще проще обидеться на русскую классику за то, что учит не тому. Обвинить ее в том, что устарела — и перестать преподавать. Под любым благовидным предлогом.
— Нам нужна новая литературная традиция или мы могли бы заимствовать переводную?
— За последнее время мы создали массовую литературу по западному образцу — это помогло возродить подзабытую было отечественную традиция. Женский сентиментальный роман бурно развивался в России в XIX — начале XX века, потом его заменили советские тексты, где производство и любовь смешивались. Кондовый соцреализм существовал на периферии литературы и заменял массовую литературу. Когда стало возможно, на Западе позаимствовали некоторые жанры масслита. Допускаю, что многие создатели современного сентиментального романа не читали Вербицкую и Чарскую, скорее всего, они переводили западные романы, довольно быстро поняли, как эти тексты устроены. Потом возникла социальная база для этих текстов, грубо говоря, появилось достаточное количество профессий для состоятельных мужчин, которые могли облагодетельствовать каких-то золушек. И пошли дамские романы в жизнь. Все это производится в большом количестве, но интересно, что эти романы пришли в Россию позже милицейского детектива и боевика. В том числе и потому, что читать про любовь в массовой литературе после Бунина, Чехова и Толстого скучно.
— Но разве основными читателями массовой литературы не стали те, кто выросли на Толстом и Бунине? Они с легкостью отказались от той литературной традиции?
— Не отказались. Во-первых, прошло двадцать лет, сформировалось новое читательское поколение, воспитанное в другой школе и в других традициях. Первые дети, которые родились после советской власти, сейчас заканчивают университет. Им 21 — 22 года. Это люди с другими ориентирами, они воспитывались в иной среде, но родителями, которые твердо знали, что чтение — это хорошо. Они передали эту мысль, дети выросли читающие, хотя они читают другую литературу.
Во-вторых, рассогласование ценностей началось именно в 1990-е. Исчезла государственная поддержка литературы, литература перестала восприниматься как опора идеологии, маргинализовалась в качестве школьного предмета. Шла поляризация общества, многие учителя с введением ЕГЭ и окончательной отменой выпускного сочинения решили, что они за маленькую зарплату не будут преподавать оба предмета: спрашивают за русский язык — его и будем преподавать. Зарплаты учителей давно вполне приличные, но возвращаться к старым схемам сложно.
В-третьих, скажу крамольное: учителя сами мало читают современную сложную литературу. Если есть тексты, которые доставляют легкое удовольствие, зачем мучиться, читая Александра Терехова, Михаила Шишкина, Захара Прилепина и т.п. Оправдание найти легко: это литература, в которой есть нецензурные выражения, она учит людей плохому, она слишком жестока, трагична, беспросветна. Можно найти миллион объяснений. На самом деле объяснение одно: я этого читать не хочу и не буду. В 90-е годы учительница, едущая в транспорте, читала Маринину, завернутую так, чтобы никто не видел, что она читает: не совсем прилично. Сегодня перестали стесняться.
Поэтому, что хочет общество от филологов? Все понимают, что лучше «Анны Карениной», «Идиота», рассказа «О любви» и пьесы «Горе от ума» в России ничего не создали. Есть великая литература, все понимают, что раз создано, надо гордиться. Но чтобы гордиться осмысленно, к сожалению, ее надо читать. А чтение времяемкое занятие. Плюс навык чтения утрачивается. Проще гордиться именами и названиями. Так что общество хочет, чтобы филологи литературоцентризм как-то поддерживали, пересказывали, например, тексты увлекательно. Но при этом оптимально, если бы в школе они все превратились в людей, которые будут заниматься изучением и преподаванием русского языка, потому что падение грамотности сильное.
— Почему, если школа бросила все силы на грамотность?
— Чтобы хорошо писать, надо читать книжки, написанные на хорошем литературном языке, писать по ним диктанты, изложения, сочинения не просто Бог знает о чем, а по поводу текстов, которые написаны умными людьми на хорошем языке. Ты своей рукой должен вывести эти слова, чтобы запомнить, как текст создается. Автоматизм упражнениями по грамматике выработать можно, но человек должен еще чувствовать вкус к языку, уметь на нем свободно говорить.
— Почему школа так легко поддается сегодня реформам, если новые методики неэффективны?
— Школа трудно отказывается от старого. Тем более что филологическое сообщество почуяло опасность и начало консолидироваться. Обратите внимание, во всех изданиях сейчас, включая самые что ни на есть популярные, обязательно есть рубрики, посвященные культуре чтения и аннотациям разного рода книжек. Мы все время пытаемся сказать обществу: люди, читайте, и вам станет от этого лучше. Издатели предлагают книги одна интереснее другой в разных форматах. Смотрите, как писатели невероятно активизировались. Вот у нас детские писатели ходят читают свои тексты по школам, объясняют учителям — есть современная детская литература, пишутся книги, читайте их сами, рекомендуйте ученикам. Это долгая, мелкая, медленная, мышиная работа. Она проводится, но проблема в том, что правая рука не знает, что делает левая. С одной стороны, мы активно пропагандируем чтение. С другой — лишаем ключей к книге, перестаем учить читать. Как и кто будет читать, если не умеют этого делать? Дети должны глотать книги.
Профессиональная честь
— Я вспоминаю один наш разговор — о военных инженерах. Он рифмуется с разговором о преподавании литературы в школе. Когда в начале 1990-х инженеры были вынуждены искать другую работу, их никто не задержал. В начале, еще в советское время, государство и общество вложили в них много сил и средств, а потом, получается, вышвырнули?— Когда-то в стране решили: хорошо, раз у нас разоружение, давайте мы продадим и проедим свои военные секреты, и инженеры оборонки нам не нужны. Не задумались, что это люди, которые получили образование очень высокого качества, люди, которые относятся к своим задачам не как к военным, а как к исследовательским, наконец, люди, которые получают удовольствие от того, что делают серьезное, важное дело. Выкинули этих мужчин из их сферы, сказали им, давайте в охранники идите что ли, стойте в аптеке и ждите, когда ее кто-нибудь ограбит. Может быть, это случится раз в двести лет. Это совершенно бездумное и безумное, с моей точки зрения, расточительство интеллектуальных, людских и каких угодно ресурсов. Но дело еще и в том, что, не просчитав ничего, мы получили яму. Потому что этих инженеров некому теперь воспроизводить и никто не хочет в них идти. «Я не знаю, что будет со мной послезавтра, потому что они опять решат, что заводы не нужны или еще что-нибудь не нужно, и меня опять выкинут на улицу, как выкинули моего отца в свое время» — все эти сценарии тоже передаются.
С инженерами военного производства уже через десять-пятнадцать лет становится все понятно. Если нет хорошего слесаря, токаря, если нет инженера, то производства не будет. Сейчас с производством дела обстоят неважно, поэтому давайте будем платить ребятам, которые придут на инженерную специальность с хорошими выпускными баллами, десять тысяч рублей в месяц стипендию, больше, чем зарабатывает ассистент в этом же вузе, потому что нам нужно воспроизводить инженеров любым образом. Давайте усилим физику и математику в школе, потому что в 90-е годы символически и экономически настолько снизили их авторитет, что не можем набрать сильных студентов на хорошие специальности с хорошей перспективой. Уж что-что в советской школе было хорошо поставлено, так это «неидеологические» предметы.
Сейчас мы принижаем гуманитарные дисциплины, чтение. Результат будет не столь очевиден, но последствия не менее драматичны. Когда мы воспитаем поколение людей, где три четверти смогут читать только инструкцию к зубной пасте, которые не будут видеть вторых и третьих смыслов в тексте, не будут даже подозревать, что в тексте есть второй-третий смысл и его надо обязательно искать, вот тогда мы поймем, что окружающий мир кардинально поменялся. Реформаторы образования легкомысленно относятся к серьезным социальным проблемам. Из-за того, что не понимают значение гуманитарной науки, трудно просчитывать гуманитарные последствия, связанные с размыванием тех или иных профессий.
Мы наивно пришли в капитализм, решив, что капитализм — это полные полки. И не понимая, что это еще и социальное расслоение, и ответственность за свою собственную жизнь, и отсутствие жесткого патроната государства. О подобных проблемах, кстати, многократно писала русская литература: уж что-что, а русский капитализм в русской литературе был описан от и до, потому что литература находилась на очень высоком уровне развития, соответственно, и писатели, начиная с Вересаева и Горького и заканчивая Блоком и Иннокентием Анненским, про русский капитализм что-нибудь умное да написали. Они рассмотрели, почему он так быстро разваливается, что при этом происходит, как взаимодействуют друг с другом техническая и гуманитарная ветви интеллигенции.
И когда мы говорим про этих инженеров, меня смущает все то же: людей лишают возможности думать о сложных вещах, им предлагают какие-то убогие по сравнению с их предшествующей деятельностью сценарии жизни. С чтением — та же проблема.
— Люди с этими сценариями смиряются?
— По крайней мере, известным мне военным инженерам это не понравилось: да, они выполняют те роли, которые им предписаны, слава Богу, никто из них не ушел навсегда в охранники, хотя был период, когда это казалось выходом. Многие стали менеджерами. Я смотрю на этих пожилых сейчас людей, они говорят: мы за две недели поняли, что надо делать, через два года достигли потолка, который возможен для нашего возраста, у нас хорошая зарплата, все в порядке. Что будем делать дальше? Надо как-то себя развлекать. Один ездит по восточным странам: как он изучал в свое время физику твердого тела, сейчас так же последовательно изучает Бали. В прошлом году осваивал Индонезию — со свойственной скрупулезностью, с грамотной постановкой и вариантами решения этой частной задачи. Потом еще что-нибудь найдет: мир большой. Другой занимается селекцией яблонь. Третий фотографирует. В середине жизни было у них, как они говорят, пятнадцать счастливых лет, когда они занимались тем, что любили и умели делать. А сейчас занимаются тем незатейливым, что приносит доход.
— Приобретя власть, это поколение пытается что-то менять, памятуя об идеалах молодости?
— Они нашли для себя боковые ходы. Не уверена, что среди них много людей, которые участвуют в протестных движениях. Во-первых, потому что это нормальные, застойные дети, воспитанные в ситуации, когда ты понимаешь, что любой протест — это такое же лицемерие, как и непротест. Плюс — люди научились понимать за это время, что все куплено: «это откат», «это распил». Риторика покупки очень сильная. Мы недооцениваем слова, весь этот тезаурус, которым оперируем. Три года назад я не знала слова «откат». Сейчас оно вошло в мой лексикон так же спокойно, как блатная лексика вошла в лексикон людей 60-х годов. Когда Солженицын выпускал «Один день Ивана Денисовича», ему нужен был словарь, чтобы объяснять людям, что такое «шмон». Сейчас мы оперируем свободно этой терминологией.
Во-вторых, эти люди уже достаточно пожилые, и они привыкли работать, и они работают, только они работают на себя.
Я думаю, есть разные сценарии, и, подозреваю, есть социологические работы, которые заняты чисто количественным изучением этих сценариев. Но меня смущает, что мы все время наступаем на одни и те же грабли, не просчитывая серьезные общественные проблемы, которые уже случались и были многократно описаны, а потом создаем следующие проблемы, которые также социально не просчитываем. Сейчас мы заняты уничтожением читателя. Хорошо, уничтожим. Вы думаете, мы построим финский социально сориентированный капитализм на этом слое? Боюсь, что нет.