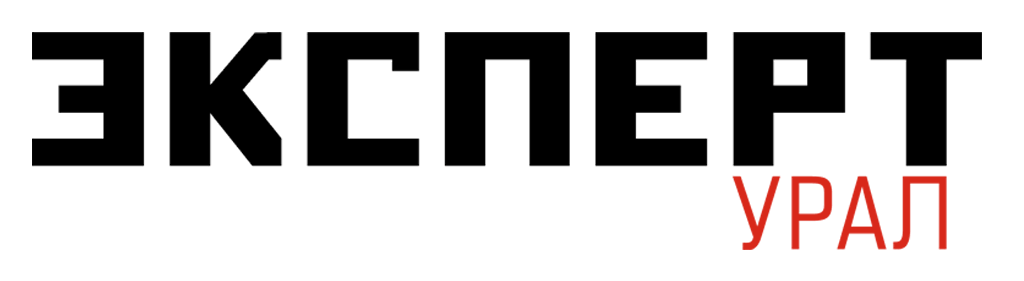Эффект второго действия
Известное название еще не залог успеха: интерпретация постановщика либо оживляет классическое произведение, либо хоронит его.Cпектакль по классическому произведению обрекает себя на сравнение: с драматургической основой (это уж обязательно, и отступление от канона нередко «карается смертью»), с другими постановками, а в последнее время — с экранизациями, которые как массовый вид искусства составляют серьезную конкуренцию театру. На «классику» мы приходим с букетом собственных ожиданий. Минувший год войдет в театральную летопись Среднего Урала как год актуализации классики. Но само по себе известное название еще не залог успеха. Оно как призыв к многообещающему знакомству: «красивый, богатый, без вредных привычек», а что в реальности? Каждый раз не знаешь, в какой «Вишневый сад» попадешь, какого «Дядю Ваню» встретишь.
Рука Мастера
…Ситуация повторялась. Первое действие воспринималось неоднозначно. Зрителей энергично втягивали в определенную стилистическую среду, кто-то погружался безропотно, кто-то сопротивлялся. Я ждала второго действия, зная по опыту: оно либо все оправдает, либо все перечеркнет. Тема «второго действия» не раз возникала именно в Свердловском академическом театре драмы. Первая часть спектакля — как знакомство, продолжение — как укрепление отношений или их окончательный распад. Такое случалось: эффект второго действия срабатывал разрушающе для общего впечатления. Две осенне-зимние премьеры местного «большого театра» именно вторым действием доказали и заявленную значимость, и самодостаточность, и содержательно-формальную состоятельность.Премьера «Мастера и Маргариты» собрала полный зал. Дебютные спектакли отыграли, а зал по-прежнему «до краев». Успешный телесериал, а затем реанимированный фильм Юрия Кары будто прорвали некий затор в отношении культового произведения Михаила Булгакова: достаточно на афише имени автора, чтобы решить проблему с продажей билетов. Но для режиссера браться за подобную литературу всегда рискованно. А где риск, там и смелость. Смельчаком оказался Григорий Лифанов (московский режиссер, немало работавший в Екатеринбурге).
Сложность переложения булгаковского текста на другие «эстетические носители» уже описывалась и анализировалась. Роман столь насыщен содержательно и образно, что придавать ему дополнительные смыслы режиссерской интерпретацией оказывалось губительно. Успеха достигали версии, уважительно приближенные к первоисточнику, как, например, фильм Владимира Бортко, избежавший серьезных купюр-потерь и сделавший произведение доступным, но не упрощенным.
Впечатление, что в спектакле Свердловского театра драмы пытались воссоздать не роман даже, а именно телесериал, стойко держалось в течение первого действия. Отсылки к нему давали прежде всего сами артисты, повторяя жесты, интонации, позы киногероев. Простецкая хитрость Никанора Ивановича Босого вызывала моментальные ассоциации с исполнением роли Валерием Золотухиным. Жена Семплеярова голосом, мимикой возвращала к сериальному варианту. И даже первое появление Маргариты, мощное и при этом тонкопоэтическое, выглядело не самостоятельным, а дублирующим экранный опыт. Если фильм называли иллюстрацией книги, то спектакль начинал казаться иллюстрацией фильма. Вторичность вторичного.
Но вот со скрежетом выехавший на сцену трамвай, тот, что принес гибель Берлиозу, трансформируется в нехорошую квартиру, а после вполне органично становится романтическим пристанищем двух влюбленных. Сцена мистически раздвигается вглубь, вширь, ввысь, ее пространство бесконечно деформируется. И присущая роману магическая составляющая постепенно пропитывает ткань спектакля. Художник-постановщик из Варшавы Анна Томчинска создает единый сценический образ, графичный, конструктивно-технологичный и элегантный. Григорий Лифанов насыщает пространство чисто театральными приемами, и знакомые эпизоды начинают восприниматься по-новому. Когда театр берет на щит лишь ему присущие выразительные средства, не пытаясь состязаться с иными видами искусства в правдоподобии, а делая упор на условность, он выигрывает. Зритель же, по определению ведомый, постепенно настраивается на частоту звучания, которую задают и, что важно, выдерживают на протяжении нескольких часов создатели постановки.
Зачем изображать зрительный зал (эпизод выступления в варьете), если он и так здесь. Нужно его сорганизовать играть самого себя. Это нас, современных жителей мегаполиса, а вовсе не довоенных москвичей, оценивал Воланд («Люди как люди, только квартирный вопрос их испортил»). Это нам на головы сыпались денежные ассигнации, и мы познавали всю связанную с этим «небесным явлением» гамму чувств. Зачем прерывать действие на антракт и нарушать целостность художественного организма спектакля, если можно дефицитное время использовать, например, на чтение Мастером своего романа. Рука режиссера порой совершала вполне изысканные жесты, а порой била наотмашь, как с навязчиво повторяющейся песней в психиатрической клинике. В любом случае самостийное срабатывало сильнее скопированного. Из актерских работ в этом отношении выделяются две. Воланд в исполнении Вячеслава Хархоты кому-то напомнил современного олигарха, кому-то модного циника, но точно не вызвал ассоциации ни с Олегом Басилашвили, ни с Валентином Гафтом. Александр Борисов в роли Мастера хоть и не прозвучал громко, но в общем шуме стойко вел собственную линию.
Все приемы, настроения, эстетические заявки, застолбленные в начале, не были брошены и забыты, а получили развитие в ходе спектакля. В том числе от сцены к сцене нарастал, становился очевиден подспудный страх спектакля показаться зрителю слишком серьезным. Дело не в том, что за скобки вынесена целая сюжетно-смысловая линия — нравственная схватка Иешуа и Понтия Пилата. Охватить целиком многоуровневый роман невозможно и, честно говоря, морально-этические и метафизические рассуждения, данные фоном, успешно сыграли свою роль. Дело в том, что театр боится говорить серьезно, опасаясь (возможно, справедливо), что массовый зритель его разлюбит. Обилие сценических «фокусов» создало атмосферу некоего волшебства, приподняло над бытом — и уберегло от погружения в философские и психологические глубины.
Сестры и братья
…Ситуация повторялась. Первое действие вызывало раздражение, как казалось, «точным непопаданием» в Чехова. Разве можно в постановках его пьес кричать, работать голосом? Разве уместно здесь излишество в любом виде? Да не сторонники мы того, чтобы классика почиталась священной коровой: «руками не трожь!». Трогать давно разрешается, обновлять, модную попонку надевать — пожалуйста, только коверкать нежелательно. Второе же действие как-то незаметно для строгого зрительского глаза отсекло необязательное, сохранило проникновенное, и вдруг оказалось, что ты полностью подсоединен к переживаниям героев.Театр потянуло на классику. В том числе потянуло на классику Молодой театр, который входит в первый на Урале театральный холдинг Свердловского драматического. Оцените репертуар молодежной студии: «Гроза», «Соловей», теперь — «Три сестры». Режиссер один — Дмитрий Касимов.
Современное отношение к творчеству Антона Павловича Чехова, при сохранении непререкаемости его авторитета, двойственное: высокий интерес среди насмотренной публики и пугающе низкий среди перманентно текущих театралов-любителей. Это вам не Булгаков: даже малый зал зиял пустыми креслами. Жаль: пьеса из числа последних, написанных Чеховым, многими почитается как одна из самых мудрых.
Пьеса о том же, о чем практически весь Чехов, — о смысле существования или его отсутствии. Недоумение от самой жизни здесь особенно сильно, а сравнение между тем, чего ждали и что получили, особенно печально. Путь, который проходит каждый хоть чуть-чуть знакомый с рефлексией человек. Поначалу — молодое неудержимое стремление к счастью. В чем счастье, в любви? Автор исследует несколько возможных вариантов. Судьба брата Андрея демонстрирует, во что превращается супружеская жизнь с когда-то любимой, а по сути чужой женщиной. Искренне любящий барон погибает. Одна из сестер, замужняя Маша, влюблена в женатого Вершинина — вряд ли удовлетворяющая стороны ситуация. Ольга «замужем» за работой, обаятельная Ирина просто не знакома с этим чувством. Счастье с любовью мы все пытаемся срифмовать, да редко складно получается. В чем же тогда счастье, в труде? Он скорее спасение. «И, наконец, увидишь ты, что счастья и не надо было». Все герои страдают. Чехов ярче остального видел в жизни и отражал в литературе скуку, пошлость и страдание. Мужчины, женщины мучительно ищут счастье, бесконечно философствуют, самозабвенно грустят. Куда все уходит? Где наши мечты? Каждый находит свою формулу ответа.
В спектакле «много режиссера». Дмитрий Касимов еще по «Грозе» зарекомендовал себя как ярко образный, не экономящий выразительные средства постановщик. В «Трех сестрах» порой становится тесно от различных приемов. Чемоданы загромождают сцену на протяжении двух действий, прямой символ желания перемен, «в Москву, в Москву», там хорошо, где нас нет. Повсюду закрытые двери, преграда на пути в другую жизнь, стена между людьми (прекрасно построена сцена объяснения Андрея и Натальи через дверь: вроде и слышат друг друга, но не понимают). Ковровая дорожка как путь, по которому хочется прокатиться играючи, скользя, а не ползя. В первых сценах спектакля жизни прекраснодушно поют птицы. Потом их голоса перестают замечать — чтобы вновь услышать в последних сценах, но пение уже звучит как свист пуль.
После нескольких спектаклей Дмитрия Касимова создается впечатление, что молодой режиссер еще не определился с собственным стилем. То он подпадает под влияние эстетики Николая Коляды с ее многообразностью, повторяемостью, материальной насыщенностью (существовать в едином с ним культурном пространстве и остаться полностью свободным немногим удается), то пытается сбросить лишние образные одежки, добиться смысловой прозрачности. Он не побоялся говорить о серьезном без упоительного кривляния. Как только режиссерский голос переставал звучать агрессивно-навязчиво, через плотную и неровную ткань спектакля наконец проступал Чехов. И возникал смех сквозь Чехова. Слезы сквозь Чехова.
Если «Мастер и Маргарита» от часа к часу (две премьеры велики по размеру, длятся 3,5 часа) выкристаллизовывал форму, то «Три сестры» менялись в сторону уточнения и утончения образов. Обе постановки не заканчиваются выходом зрителя из зала, возникает «эффект третьего действия», пролонгированного влияния искусства на человека.