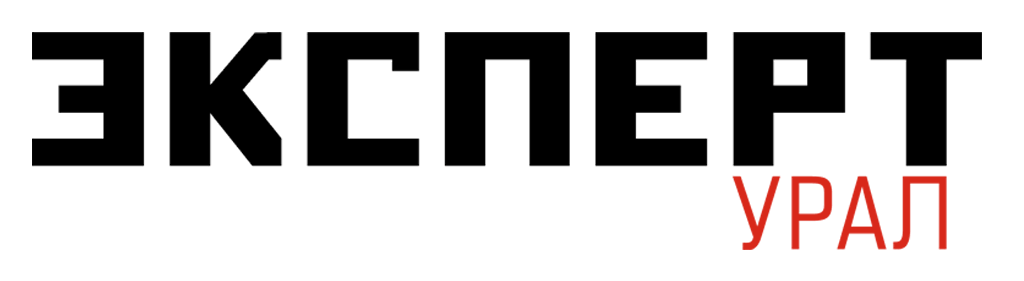Нам и в модерне неплохо
 |
| Владислав Иноземцев |
Средство как самоцель
— Владислав Леонидович, в России заметна тенденция к корпоративизации государства. Налицо такие ее признаки, как сращивание крупного бизнеса и бюрократии, стремление к насаждению однопартийности. Насколько этот процесс соответствует закономерностям глобализации?
— Корпоративизацию, о которой вы говорите, нельзя однозначно считать ни противоречащей глобализационным тенденциям, ни соответствующей им. Основной вопрос в этом случае (впрочем, как и в большинстве других, когда речь заходит о политике) — определение цели, ради которой предпринимаются те или иные реформы. Истории известны примеры, когда корпоративные государства, в частности Япония, Тайвань или Южная Корея, весьма успешно реформировали экономику и затем эволюционным образом превращались в более демократические общества. Но есть и образцы того, как корпоративные государства вырождались в диктатуры и их экономика стагнировала на протяжении десятилетий.
В Японии, Корее и в современном Китае в свое время была поставлена цель завоевать значимые позиции на мировом рынке, интегрироваться в глобальную экономику в качестве индустриальных стран, технологически перевооружить национальную экономику, чего нельзя достичь без участия государства. В современной России, и это явно следует из курса на укрепление статуса «энергетической сверхдержавы», подобные задачи на повестке дня не стоят. Доля энергоресурсов и сырья в экспорте достигла в первом квартале этого года исторического максимума — 77,1%, и власти ничего не предпринимают для изменения ситуации. Промышленная политика подчинена целям импортозамещения, которое ни в одной развивающейся стране не обеспечивало долгосрочного экономического подъема.
В целом, мне кажется, взят курс на изоляцию российской экономики от внешнего мира и на воссоздание советской системы. Поэтому причину корпоративизации российского государства я усматриваю в неразвитости политической культуры и экономического кругозора — но не гражданского общества и экономики, а правящей элиты. Разумеется, вкупе с ее материальной заинтересованностью в отсутствие реальной рыночной конкуренции и неразвитостью частного сектора в экономике страны.
— Однако и президент Путин, и заместитель главы его администрации Сурков неоднократно указывали на необходимость трансформировать бюрократию из постсоветской в динамичную и современную.
— Такая необходимость очевидна. Однако непонятно, каким образом предполагается достичь этой цели, если во главе государства стоят люди, воплощающие именно советские черты бюрократии. Они предпочитают бороться за контроль над добывающими отраслями, а не развивать новые производства и технологии, стремятся вывести чиновничество изпод демократического контроля и сделать его неуязвимым для судебной системы.
Тот же Сурков призвал «Единую Россию» закрепить доминирующие позиции еще на 10 — 15 лет. Скорее всего, так и случится. Для политической системы России это будет означать укоренение ныне сложившейся ее формы — монополистической, неконкурентой и потому неэффективной. Бесконтрольная бюрократия не может быть эффективной, а все усилия нынешней власти направлены, на мой взгляд, именно на передачу ей все больших и больших полномочий.
Вширь и вглубь
— Сращивание исполнительной и законодательной властей через «Единую Россию», напротив, объясняется самими партийцами стремлением повысить оперативность преобразований, эффективность управления ими.
— Сначала нужно определиться с целями. На мой взгляд, целью российской власти в центре и на местах являются минимизация угроз для правящего класса и обеспечение контроля над экономическими ресурсами. С этой точки зрения сращивание законодательной и исполнительной властей, безусловно, эффективно. Оно неэффективно с точки зрения развития современной экономики и обеспечения потребностей населения. Но такие цели появляются только в программных речах, однако реальную программу действий власти не определяют.
— Вы сказали: «на местах». Значит, бюрократическая монополия расширяется и вширь, и вглубь?
— Возьмите поправки в ряд законов, подготовленные депутатами Госдумы из «Единой России». Они позволяют региональным властям лишать полномочий неэффективных глав муниципальных образований, вообще ликвидировать их всенародные выборы, подменив этот процесс выборами из состава представительных органов. Это противоречит 12й статье Конституции, но в то же время вполне вписывается в логику действий нынешней власти. А в условиях практического включения Конституционного суда во «властную вертикаль» не возникает сомнений, что нововведения будут претворены в жизнь.
— Насколько распространена практика подчинения муниципалитетов региональной власти в Западной Европе?
— В каждой стране существуют различные подходы к этой проблеме, однако в целом муниципалитеты имеют весьма серьезные полномочия, хотя и ограниченные отдельными сферами деятельности.
В рамках этих сфер вышестоящие власти не имеют права вмешиваться. Показательный случай произошел в прошлом году в Гарвардском университете, где один научный центр построил на предварительно купленных земельных участках по двум сторонам оживленной улицы два исследовательских корпуса. Так как эти участки принадлежали университету, муниципальные власти не могли препятствовать строительству. Однако за разрешение соединить эти здания подземным переходом муниципалитет запросил 10 млн долларов, так как улица и все, что под ней находилось, были «зоной ответственности» муниципальных властей. «Решить вопрос» не помогло даже вмешательство губернатора штата. Эксперты так и перебегают друг к другу через дорогу.
В то же время нет единой практики назначения или избрания мэров городов или губернаторов провинций. В Германии, например, они избираются, во Франции — назначаются. Но если в своей деятельности они выходят за границы полномочий, и на тех, и на других легко найти управу. Этото и отличает их от российского чиновничества.
Закон суров, но это туфта
— Может, в этом специфика российской демократии? Есть ли общие признаки демократии, и должна ли российская им соответствовать?
— Общие признаки назвать нетрудно: всеобщность избирательного права, избираемость любого должностного лица страны, разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, обеспечение свободы слова и распространения информации, отделенность церкви от государства, невмешательство вооруженных сил в политику и так далее. Основой такого демократического общества являются либеральные принципы, в первую очередь — соблюдение прав человека и гарантии неприкосновенности частной собственности. Если Россия хочет быть демократической страной, она должна принимать и применять на практике эти принципы.
В Великобритании в XIX веке и в США в первой половине ХХ большинство населения не допускалось к голосованию на выборах, но эти страны были правовыми либеральными государствами. Само государство могло выступать ответчиком, если нарушало законодательно закрепленные права граждан. В России все наоборот. Все граждане обладают правом голоса, но что это за право, если с 1990 года Верховный Совет, а затем и Федеральное собрание ни разу не избирались по тем же правилам, что действовали на момент предшествующих выборов? Что это за демократия, когда предприниматели могут быть обвинены в неуплате налогов, а чиновники, ранее признававшие их налоговые декларации правильными, но затем пересмотревшие вердикты по звонку из прокуратуры, не несут никакой ответственности?
Вот почему я считаю, что в современной России строгое исполнение даже ныне действующих законов важнее развития демократии, которую власть уже вполне научилась использовать в собственных целях.
— Следовательно, независимый суд и прочие элементы системы сдержек и противовесов — это как раз то, что сегодня нужно стране? Но насколько реальна возможность формирования этих институтов?
— Да, я считаю роль судебной системы крайне важной, пожалуй, даже наиболее важной. Однако я не верю в то, что в нынешних условиях власть заинтересована в укреплении судебной системы. Прежде всего потому, что продолжаются как передел собственности, так и постоянные изменения в структуре политических институтов. В такой ситуации власти выгоднее, чтобы система сдержек и противовесов находилась в зачаточном состоянии или попросту отсутствовала.
Не говори «гоп»
— Россияне мало доверют партиям. По результатам декабрьского исследования ВЦИОМ, больше половины граждан устраивает однопартийная система или система из двухтрех партий, участвовать в партийной жизни готовы лишь 15% опрошенных, а 27% вообще не видят в партиях пользы. Насколько это явление вписывается в общемировую практику?
— В этом случае российские тенденции не имеют к общемировым никакого отношения. Снижение доверия к партиям наблюдается в России просто потому, что начался планомерный демонтаж партийной системы. Сделав работу оппозиционных партий невозможной, причем не формально, а используя массу подзаконных актов и инструментов, имеющихся в ее распоряжении (от выборочных финансовых проверок и забраковывания по формальным признакам подписных листов до нажима на финансирующих неугодные движения предпринимателей), превратив правящую партию в квазигосударственную организацию, власть обесценила партии как политические институты.
— А в мире зарождаются «постпартийные» политические институты — референдумы, праймериз через интернет. Может ли что-то прийти на смену партиям? Или это пока фантастика?
— Я не стал бы утверждать, что имеет место снижение доверия к партиям или затухание партийной борьбы. В США, Европе партии как были, так и остаются важнейшими инструментами структурирования политического процесса. На недавних парламентских выборах на Украине соперничали 45 партий и политических блоков.
В России их могло бы быть не меньше — если бы не негативное отношение Кремля к самой идее народной демократии.
Что касается «постпартийных» институтов, то это и в самом деле фантастика.
В первую очередь потому, что даже референдумы через интернет меняют не партийную суть политического процесса, а лишь форму волеизъявления граждан или метод определения их предпочтений. Анархические идеи самоорганизующихся общностей (а только такие общности могли бы исключить потребность в партийной организации политического процесса) пока еще остаются утопией, далекой от реальности.
— Но молодые французы выбирают для выражения своей воли не устоявшиеся политические институты, а акции протеста. Не партии становятся выразителями интересов социальных групп, а профсоюзы.
— Объяснение простое. Во Франции, в отличие от России, не принято изменять законодательство от месяца к месяцу. Например, в 1998 году социалистами через французский парламент был проведен закон об ограничении рабочей недели 35 часами. С тех пор даже социалисты разочаровались в нем, а правые всегда выступали против, но закон не отменен по сей день — процесс крайне сложен. Протестовавшие понимали, что если закон о новом трудовом контракте вступит в силу, то его пересмотр займет многие годы. Вы совершенно верно отметили, что во главе протестов оказались профсоюзы, а не партии, например коммунистическая или социалистическая. Это происходит прежде всего потому, что даже левым выгодно принятие этого закона: в таком случае они смогут использовать обещание отменить его как лозунг на выборах в следующем году. Так что роль профсоюзов вовсе не означает отмирания партийной политики и тем более парламентаризма.
— Как и государства в целом? Многие исследователи, например Элвин Тоффлер, Кеничи Омае, Антонио Негри, Майкл Хардт, говорят, что в связи с глобализацией государство отмирает, делегируя свои полномочия общественным институтам.
— Должен вас разочаровать: я не слышал «множества разговоров». Никакие общественные институты не могут исполнять роль государства. Обсуждается скорее сокращение полноты суверенитета национальных государств и передача части их функций наднациональным институтам. Особенно явно это можно наблюдать в Европейском Союзе с его единой налоговой и таможенной политикой, единой валютой (пусть лишь в зоне евро), едиными иммиграционными требованиями.
Вопрос о делегировании суверенитета наднациональным институтам крайне актуален, но в России к этому относятся весьма настороженно, хотя на деле процесс идет: это проявляется и в удовлетворении Европейским судом по правам человека исков российских граждан к своему правительству, и в том, что России придется подчиняться, например, правилам ВТО, если она в нее вступит. В целом же идея «субординации суверенитетов» вызывает отторжение у отечественной властной элиты. Она не хочет ни перед кем быть ответственной.
— Насколько я понимаю, именно этот «неделимый суверенитет» и лежит в основе того, что на Западе сейчас называют modern politу (по типологии политолога Роберта Купера*). Есть ли у России шанс вырваться из этого состояния?
— Да, можно так сказать… Купер, кстати, в качестве классического примера modern politу приводит Соединенные Штаты, которым также никто не указ. В России политическая элита по идеологии и мировоззрению гораздо более американо-, нежели европодобна. Я не думаю, что сегодня у России есть шанс выйти из этого состояния, и не считаю, что из него вообще следует выходить. Пока для этого нет никаких предпосылок, а зачем искусственно форсировать события? Мы много раз пытались строить то коммунизм, то капитализм, то еще что-то. Мне кажется, что выход за пределы modern politу может встать в повестку дня лишь тогда, когда в российском обществе серьезно укоренятся космополитические настроения. Для этого должно смениться несколько поколений.
* По этой типологии, все страны делятся на три группы: premodern polities (недемократические страны, где политика подчинена задачам сохранения власти правителя); modern (власть и бизнес сосуществуют, представляя собой два пути радикального повышения благосостояния причастных к ним лиц; политика основывается на имитации демократии и популизме); postmodern (высокая социальная защита, низкое материальное неравенство, бизнес столь социализирован, что политические деятели, как и высшие менеджеры корпораций, — типичные upper middle class).