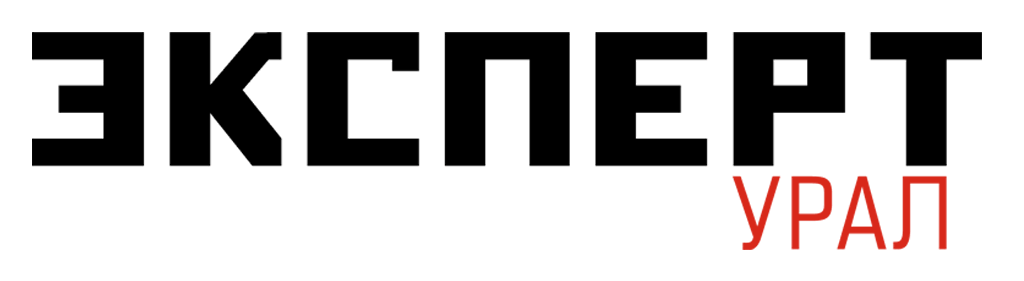Инновационное суфле
 Моделирование технологических процессов может изменить мир, но важно, чтобы у компании или вуза были, во-первых, «далеко идущие цели», во-вторых, вера в успех и, в-третьих, средства для реализации этих целей
Моделирование технологических процессов может изменить мир, но важно, чтобы у компании или вуза были, во-первых, «далеко идущие цели», во-вторых, вера в успех и, в-третьих, средства для реализации этих целейВсе модели ошибочны,
но некоторые из них бывают полезны.
но некоторые из них бывают полезны.
Джордж Бокс, британский статистик
В сентябре один из ведущих европейских разработчиков софта в области компьютерного моделирования технологических процессов, проектирования и изготовления изделий французская ESI Group открыла в Екатеринбурге офис — первый в России. Необычное решение: как правило, западные компании сначала обосновываются в Москве, в крайнем случае в Питере, и только потом идут в регионы.
— Это мой второй приезд в Россию, в прошлый раз я был в январе 1991-го или 1992 года, в общем, после распада СССР, — вспоминает улыбчивый президент ESI Group Ален де Руврэ. — Меня пригласили в Пермь в рамках обмена технологиями между Россией и Францией, я был в составе миссии, организованной нашим министерством. Представляете — Пермь в январе: вечером на улице не горел ни один фонарь, а темнело рано. В отеле нам объяснили, что туалетную бумагу надо было взять с собой: «здесь ее нет». И ни одного ресторана. Единственное место, которое открыто было вечером, — казино.
— Мы работаем в России уже больше десяти лет и поставляем свои программные продукты для сибирских, уральских, московских и северо-западных машиностроительных предприятий, а также университетов. На протяжении многих лет развитием бизнеса в России занималось наше представительство в Праге, что доставляло нам массу неудобств.
Свой первый офис мы открыли в Екатеринбурге, поскольку между ним и Прагой существует прямое авиасообщение, географически он расположен удачнее Москвы, кроме того, здесь находится крупный торговый представитель нашей компании — «Делкам-Урал».
— Но вы наверняка в курсе: в город, находящийся относительно недалеко от Екатеринбурга, легче и дешевле добираться все равно через Москву.
— Да, я это знаю. Но это в любом случае значительно удобнее, чем летать к клиентам из Праги.
— Зачем вы вообще летали к ним из Чехии, если у вас в Екатеринбурге есть крупный дистрибьютор?
— До определенного момента спектр услуг, который предоставлял «Делкам-Урал», закрывал потребности клиентов. Собрана отличная база из десятков компаний. Но ситуация изменилась: теперь промпредприятия нуждаются в техподдержке более высокого уровня.
Объясню на примере. В России работает достаточно много металлургических предприятий, которые производят массивные изделия методом литья. Мы разработали программные продукты, которые моделирует данный процесс: в виртуальном режиме берем смесь, заполняем ею форму, наблюдаем за всеми физическими преобразованиями — выделением газов, охлаждением, выпадением осадка, кристаллизацией. В итоге получаем изделие на экране компьютера. Если его качество в силу наличия каких-либо дефектов не удовлетворяет требованиям, мы вновь воспроизводим весь процесс. Если результаты снова оказываются неудовлетворительными, заказчик обычно пытается разобраться, почему используемая им модель несовершенна. И вот тут ему требуется наша помощь.
Согласитесь, консультации, касающиеся любых технологических изменений в процессе изготовления изделия, — это помощь несколько другого уровня, чем та, которую может предоставить дистрибьютор. Потому мы отправляем на места специалистов, которые, разумеется, знают все о нашем программном обеспечении и прекрасно понимают специфику сферы деятельности клиента. Сверхзадача — создать виртуальную среду, отражающую весь процесс производства, а затем использовать ее для перехода предприятия на следующий этап развития путем совершенствования технологических цепочек или использования новых материалов.
Сегодня, например, в авиационной промышленности стало модно использование композиционных материалов. Но «выпеченная» из них в автоклаве деталь зачастую получается, мягко говоря, несовершенной: неровная, с кучей недостатков, полностью обуглившаяся и т.д. Приходится все начинать заново. Год назад одна европейская производственно-конструкторская компания (умолчу, как она называлась) подбила статистику: брак составляет четыре детали из пяти. И речь шла не о сложных, а базовых элементах, таких как топливный бак.
Экспериментальным путем, методом проб и ошибок здесь очень трудно достичь хорошего результата: формула не ясна, нужный материал не создан, технология не разработана. В течение нескольких лет мы занимались разработкой моделей, которые позволяют виртуально представить весь процесс изготовления композитов: соединение волокон, расчет коэффициента пористости, добавление смол, охлаждение под давлением, сопутствующие химические трансформации, помещение изделия в автоклав, регуляция температуры, получение на выходе готовой детали и оценка ее состояния, степени прочности и других свойств.
— Кто ваши крупнейшие клиенты на Урале и в России?
— Прежде всего предприятия авиационной промышленности — «Пермские моторы», «Редуктор ПМ», «Авиадвигатель», «Машиностроитель» (все — Пермь), Уфимское моторостроительное производственное объединение, корпорация «Иркут», рыбинское НПО «Сатурн». Машиностроители — Челябинский тракторный завод, КамАЗ, Siemens в Питере, центр газотурбостроения «Салют» в Москве. Кроме того, мы плотно работаем с наукой и вузами — НИИ авиационных материалов, Центральным институтом авиационного моторостроения, Иркутским госуниверситетом, Казанским техуниверситетом им. Туполева, Самарским государственным аэрокосмическим университетом, Уральским федеральным университетом и многими другими.
— По какому направлению сотрудничаете с УрФУ?
— Моделирование сварочных процессов.
— ESI Group почти сорок лет, ее основателем и первым сотрудником был я, тогда только окончивший калифорнийский Беркли. Нельзя сказать, что мы росли бешеными темпами. Лет через 15 число наших сотрудников в головном офисе во Франции увеличилось до 70, а затем и до сотни.
Возможно, вы мне не поверите, но первым нашим проектом было моделирование удара советских ядерных ракет по бункерам, расположенным на плато Альбион в Альпах.
— Признаться честно, я не знаю, что это…
— Это хранилище французских ядерных ракет. Во времена холодной войны наибольшую угрозу для Европы (и Франции в частности) представляло советское атомное оружие. Поэтому наше правительство приняло решение построить в Альпах подземные бункеры, которые сверху должна была накрывать массивная плита — металлический короб, заполненный армированным бетоном. Нашей задачей было смоделировать ядерный удар по бункеру. Что будет в случае прямого попадания? Что случится, если Советы промахнутся (а это было весьма вероятно, потому что русские тогда плохо целились)? Выдержит ли плита, и успеем ли мы вовремя открыть бункер для запуска своих ракет? Это была крайне сложная задача, которой мы занимались около десяти лет. А затем три-четыре года улучшали проект французских атомных подводных лодок, выясняли, какая глубина для них предельна.
Еще один наш проект состоял в расчете параметров антиметеоритного щита для автоматической межпланетной станции Джотто, которую европейцы запустили в космос для исследования кометы Галлея (последний раз проходила перигелий в феврале 1986 года. — Ред.). Этим мы тоже занимались около десяти лет. Правда, у нас было время подготовиться: комета Галлея возвращается к Солнцу примерно раз в 76 лет. И вновь перед нами стояла очень непростая задача — исследовать, что происходит с межпланетной станцией, когда ее на скорости 68 км в секунду атакуют микрочастицы (0,1 грамма) диоксида кремния. И как сделать так, чтобы «Джотто» выдержала и не разрушилась до того, как произведет запланированные измерения.
Но все это — мир виртуальных опытов, визуализации физических процессов. Мы никогда не работали с настоящими ракетами, настоящими бункерами или космическими станциями, никогда не погружали настоящие подлодки на глубину. Оно и понятно: в реальности мы не могли смоделировать ядерный удар или разогнать частицы до 68 км в секунду. Максимум, до 8 — 9 км.
— То есть в составе вашей команды есть еще и физики?
— Вот в физике-то мы как не разбирались, так и не разбираемся. Нам было понятно, что сила удара будет огромной, потому за прототип нужно брать щит Уиппла (защита, состоящая из нескольких слоев, находящихся на определенном расстоянии друг от друга, удар частицы компенсируется обратной волной, которая рождается в результате взаимодействия слоев. — Ред.). Он уже использовался в программе «Аполлон», но в ней максимальная скорость частиц была рассчитана на уровне 30 км в секунду. А у нас — 68.
Мы вынуждены были обратиться за консультациями к специалистам лабораторий в Ливерморе и Лос-Аламосе (тогда мы в основном сотрудничали с американскими университетами; я же учился в США, оброс связями и стараюсь их поддерживать). После их пояснений мы создали математическую модель, подтвердили некоторые ее параметры на оборудовании комиссариата атомной энергетики Франции, разогнав частицы до 9 км в секунду, затем провели еще одни испытания в Германии. В итоге было выработано несколько сценариев, из которых между прочим получился очень красивый фильм.
Университеты, кстати, не всегда нас выручали. Одним из наших проектов была проверка сверхмощного реактора на быстрых нейтронах «Суперфеникс» (тепловая мощность — 3 тыс. МВт, электрическая — 1,2 тыс. МВт, проработал с 1985 по 1997 год, остановлен по требованию партии зеленых. — Ред.). Французы хотели разработать энергоблок с натриевым теплоносителем и водным охлаждением. Логика ясна: жидкие щелочные металлы (а натрий — самый дешевый из них) обладают очень хорошей электропроводностью, оказывают малое коррозионное воздействие на конструкции и т.д. Но взаимодействие их с водой приводит к взрыву.
Нам пришлось работать с огромным резервуаром натрия и плитой, его закрывающей. Подобный опыт, благодаря плато Альбион, у нас был. Но его оказалось недостаточно. Мы вновь обратились за помощью к американским ученым, на что они ответили: «Понятия не имеем, как это можно сделать, все слишком сложно и вообще неосуществимо». Такой ответ нас не остановил. Мы взялись за работу и через несколько лет создали модель, которая основывалась на синтезе множества технологий: мы заимствовали отовсюду понемногу. Хорошее было время.
— Отнюдь. Да, холодная война подходила к концу, но мы по-прежнему занимались исследованиями в сфере атомной безопасности, сейсмологии и т.д. На одном остановлюсь подробнее — проект падения на АЭС самолета. Суть даже не в самом решении, которое мы разработали, а в том, что за ним последовало. На презентации в Германии в мае 1978-го ко мне подошел один человек и сказал: «Вы знаете, у нас не самолеты разбиваются, у нас разбиваются автомобили, справитесь с такой задачей?». И я подумал: мы уже моделировали крушение вертолета при ударе о землю, столкновение самолетов в воздухе. Почему бы не взяться за краш-тест автомобиля…
 Конечно, нам сказали, что это невозможно. Поиском цифровых методов для моделирования аварий в то время занимался целый консорциум из семи немецких компаний во главе с Volkswagen. Производителей не устраивало, что каждый краш-тест обходился в сотни тысяч долларов, а объективного результата не давал. Мы разработали решение за полгода, только вот просчет одной ситуации на компьютерах VAX (32-битная компьютерная архитектура, выпущена в середине 1970-x. — Ред.) занимал 400 часов. Выход был в применении суперкомпьютера CRAY (на тот момент позволял производить 133 млн операций в секунду. — Ред.), которыми пользовались только в сфере обороны и метеорологии. Время сокращалось до 20 часов. Путем некоторых преобразований его можно было сократить до десяти. Одна ночь — отлично. Немецкие производители закупили CRAY по цене 20 млн долларов за штуку. Так появился PAM-Crash, первое в мире ПО моделирования краш-тестов.
Конечно, нам сказали, что это невозможно. Поиском цифровых методов для моделирования аварий в то время занимался целый консорциум из семи немецких компаний во главе с Volkswagen. Производителей не устраивало, что каждый краш-тест обходился в сотни тысяч долларов, а объективного результата не давал. Мы разработали решение за полгода, только вот просчет одной ситуации на компьютерах VAX (32-битная компьютерная архитектура, выпущена в середине 1970-x. — Ред.) занимал 400 часов. Выход был в применении суперкомпьютера CRAY (на тот момент позволял производить 133 млн операций в секунду. — Ред.), которыми пользовались только в сфере обороны и метеорологии. Время сокращалось до 20 часов. Путем некоторых преобразований его можно было сократить до десяти. Одна ночь — отлично. Немецкие производители закупили CRAY по цене 20 млн долларов за штуку. Так появился PAM-Crash, первое в мире ПО моделирования краш-тестов.
В CRAY поняли: сотрудничество с нами выгодно. Они предложили нам купить продукт, но мы не согласились (в конце концов, это был всего лишь прототип). В итоге было принято решение осваивать новые рынки в одной связке. Так мы вышли в Японию и США. Через два года по крайней мере половина представителей мировой индустрии автомобилестроения имели компьютеры CRAY, на каждом из которых был установлен наш PAM-Crash.
Это было невероятно: 12 лицензий. Мы никогда и не думали, что моделирование краш-тестов станет нашей специализацией. У нас были сотни, тысячи пользователей. Наступило время делать нашу программу проще.
— Зачем?
— Физика — это невероятно сложно, мало кто в ней разбирался в 80-ых и разбирается сейчас. Но денег на модернизацию программы нам не хватало, нужен был дополнительный источник финансирования. Я обращался куда только мог: «Послушайте, у нас есть программный продукт, который должен принести хорошую прибыль, но на его развитие нам нужны деньги». Ответ банков был прост: денег нет. Тогда я пошел в комиссариат атомной энергетики, который в конце 80-х владел 40% нашей компании…
— …Подождите, а когда государство вошло в состав собственников вашей компании?
— Это произошло в середине 80-х. Мы тогда нуждались в использовании мощных вычислительных машин. Такие были только у комиссариата. Но у нас не было средств, чтобы платить за работу на них. Наши клиенты из военной и энергетической областей настаивали на том, чтобы ведомство продавало нам часы дешевле. Чиновники согласились, но взамен потребовали 40% компании.
— И как отреагировал комиссариат?
— Дословно не помню, но смысл был такой: «Программный продукт? Это абсолютно бесполезная вещь, мы в это не верим».
— Что же вас спасло?
— Случай. Один человек, услышавший о нашей компании, рассказал, что в Силиконовой долине у него есть знакомый, занимающийся венчурными инвестициями. Он имел право 5% капитала вложить в европейские фирмы и как раз искал подходящую возможность. Наш проект в его глазах выглядел довольно привлекательным.
— Какой объем финансирования вы подняли?
— 3 млн долларов. Дело было в 1991-м. 16 июля президент Франсуа Миттеран объявил о прекращении во Франции атомной оборонной программы. В этот день мы получили по телексу множество сообщений следующего содержания: «Проект прекращен. Завершаете работу 31 июля. Компенсация составит 4%». Так мы в один день потеряли треть выручки, которая на тот момент достигала примерно 20 млн франков, в грубом пересчете — 3 — 4 млн евро. 3 млн долларов для нас было очень внушительной суммой. И нам исключительно повезло, что американский капиталист приехал на заключение договора 27 июля, через 10 дней после заявления Миттерана.
Тогда же нам пришлось провести реструктуризацию предприятия. Так и родилась ESI Group с отделениями во Франции, Германии, Японии и США, специализирующаяся на ПО для автомобильной промышленности. И именно в этот момент наша компания стала складываться как производитель софта.
На данный момент 70 — 75% выручки нам приносят именно программные продукты, 25 — 30% приходится на сопутствующие услуги: помощь при создании моделей, поиске подходящих испытаний и полигонов, выбор материалов и многое другое.
— По итогам 2011-го — 94 млн евро. За первое полугодие 2012-го прирост по выручке составил 20%. По итогам всего года мы планируем выйти на 110 млн евро.
— Сколько приходится на Францию, Европу в целом, США, Россию?
— В прошлом году на Францию приходилось около 13% нашего товарооборота, 45% — Европа в целом (в основном — Германия), 35% — азиатские страны (Япония, Китай, Южная Корея), 20% — США. Россия, кажется, составляет несколько процентов нашей выручке: на все страны БРИК в прошлом году пришлось 11% (в 2012-м — уже 13%).
— Какие программные продукты наиболее востребованы в России?
— Мы начинали с софта по моделированию процессов литья в черной металлургии, затем пошла штамповка, сварка, термообработка. Взрывную динамику за последние два года продемонстрировали композиты.
— Каков размер штата компании?
— С недавнего времени — около тысячи человек.
— И сколько человек заняты непосредственно НИОКР?
— Научно-исследовательской деятельностью как таковой мы не занимаемся. Это удел более чем 250 университетов и научных центров, с которыми мы сотрудничаем.
— Тогда что же делают ваши R&D-подразделения? Разрабатывают софт?
— Нет, разработать — это полдела. Гораздо важнее добиться 100-процентной эффективности в каждом конкретном случае. Уравнений и моделей множество, что-то нужно упростить, что-то сохранить, что-то поменять, чтобы программа стала надежной и полезной. Сейчас этим занимаются примерно 350 человек.
— А в Екатеринбурге у вас сколько человек работает?
— Мы только начинаем — всего двое. В следующем году, возможно, будет значительно больше.
— Не планируете открывать в России свои R&D-подразделения?
— Планируем. И я думаю, что это может произойти довольно быстро. Обычно такие подразделения открываются, когда мы заключаем договоры о партнерстве в исследованиях с местными вузами. Сейчас мы ведем переговоры сразу с несколькими университетами. То есть R&D может появиться в России через год или два.
— Вы, конечно, обоснуетесь со своим R&D в столице?
— Не могу точно сказать. Учитывая наш опыт работы в сфере ядерной энергетики, металлургии, машиностроении, возможно, нашим специалистам и на Урале будет не так плохо. Кроме того, Екатеринбург — центр региона, где сосредоточены крупные научные лаборатории, высокопрофессиональные знания, где можно создавать команды, способные на инновацию. Наша сфера деятельности — не только бизнес, но еще и творчество.
Однако наиболее важные переговоры в большинстве случаев, конечно, будут проходить в Москве. Точно так же в Китае: мы решаем вопросы в Пекине, Шанхае, Чэнду или Харбине, но все переговоры происходят только в Пекине.
— В Китае вы уже проводите исследования?
— Мы заключили ряд договоров о партнерстве с университетом Цинхуа в Пекине, с Шанхайским университетом и т.д. Мы также состоим в официальном партнерстве с Государственной авиастроительной корпорацией Китая и входящим в нее Пекинским институтом авиационных материалов. Цель — помочь вузу в разработке математических моделей, новых материалов и новых технологий, которые можно будет использовать в рамках всей корпорации. В целом в программировании у нас в Китае задействовано 150 человек.
— Вы финансируете вузовские НИОКР?
— Обычно нет. Их финансированием занимается государство или крупные предприятия. Мы составляем спецификации, используем результаты исследований, оказываем всяческую помощь как нашим клиентам, так и их заказчикам.
— Что для вас означает партнерство?
— Обычно мы вступаем в партнерство с производителями, являющимися мировыми лидерами в своей области или жаждущими ими стать (я бы их назвал «компании с далеко идущими целями»). Наша задача — не копировать то, что уже создано, а делать лучше, быстрее, эффективнее. Понятно же, что целью китайских производителей не является достижение уровня Европейского аэрокосмического и оборонного концерна (EADS, производитель Airbus) или корпорации Boeing. Они стремятся за ближайшие десять лет стать лучше обоих.
В беседах я часто использую образ повара. Предположим, что он все время готовил на костре в степи мясо бизона. И был лучшим в этом деле в своей местности. И вот однажды ему достается современная кухня с кучей всевозможных приборов. И ему говорят: «Теперь ты будешь готовить здесь». Учат, как правильно пользоваться плитой и микроволновкой. Дальше, чтобы быть востребованным, ему нужно научиться готовить суфле. А это не так-то просто. И повара снова нужно учить. Все дело — не в навороченной печи, а в поваре, который хочет или не хочет стать великим кулинарным мастером. С «желающими» мы и заключаем договоры о партнерстве. Важно, чтобы у компании или вуза были, во-первых, далеко идущие цели, во-вторых, вера в успех и, в-третьих, средства для реализации целей.
Наши партнерства, как правило, рассчитаны на три года. В течение первого мы улучшаем существующую технологию, создаем и испытываем инновации, в течение второго — переводим ее в промышленное производство и подтверждаем эффективность. А за третий внедряем серийный выпуск на местах, консультируя клиента по сопутствующим вопросам. И потом начинается следующий трехлетний цикл — еще большее совершенствование технологии. Так может продолжаться бесконечно.
Возьмем, к примеру, Volkswagen. Мы начали работать с компанией над ПО для моделирования краш-тестов больше 20 лет назад: в прошлом году подписали восьмой по счету договор о трехлетнем партнерстве. Далеко идущие цели концерна — к 2018 году стать мировым лидером автомобилестроения. К 2015-му должны быть созданы виртуальные прототипы для всех его основных моделей.
Это означает, что все машины будут создаваться и утверждаться в виртуальном мире, а затем отправляться на автоматизированное производство.
— А что изменится? Автоконцерны и так проектируют все машины с помощью компьютера, с его же помощью передают всю технологическую информацию в другие отделы.
— Вы правы. Но сегодня их специалисты обмениваются геометрией, но не физикой. Это две очень разные вещи.
— Это мой второй приезд в Россию, в прошлый раз я был в январе 1991-го или 1992 года, в общем, после распада СССР, — вспоминает улыбчивый президент ESI Group Ален де Руврэ. — Меня пригласили в Пермь в рамках обмена технологиями между Россией и Францией, я был в составе миссии, организованной нашим министерством. Представляете — Пермь в январе: вечером на улице не горел ни один фонарь, а темнело рано. В отеле нам объяснили, что туалетную бумагу надо было взять с собой: «здесь ее нет». И ни одного ресторана. Единственное место, которое открыто было вечером, — казино.
Екатеринбург вместо Праги
— Господин Руврэ, почему вы решились открыть свой офис в России? И почему в качестве точки входа выбран Екатеринбург?— Мы работаем в России уже больше десяти лет и поставляем свои программные продукты для сибирских, уральских, московских и северо-западных машиностроительных предприятий, а также университетов. На протяжении многих лет развитием бизнеса в России занималось наше представительство в Праге, что доставляло нам массу неудобств.
Свой первый офис мы открыли в Екатеринбурге, поскольку между ним и Прагой существует прямое авиасообщение, географически он расположен удачнее Москвы, кроме того, здесь находится крупный торговый представитель нашей компании — «Делкам-Урал».
— Но вы наверняка в курсе: в город, находящийся относительно недалеко от Екатеринбурга, легче и дешевле добираться все равно через Москву.
— Да, я это знаю. Но это в любом случае значительно удобнее, чем летать к клиентам из Праги.
— Зачем вы вообще летали к ним из Чехии, если у вас в Екатеринбурге есть крупный дистрибьютор?
— До определенного момента спектр услуг, который предоставлял «Делкам-Урал», закрывал потребности клиентов. Собрана отличная база из десятков компаний. Но ситуация изменилась: теперь промпредприятия нуждаются в техподдержке более высокого уровня.
Объясню на примере. В России работает достаточно много металлургических предприятий, которые производят массивные изделия методом литья. Мы разработали программные продукты, которые моделирует данный процесс: в виртуальном режиме берем смесь, заполняем ею форму, наблюдаем за всеми физическими преобразованиями — выделением газов, охлаждением, выпадением осадка, кристаллизацией. В итоге получаем изделие на экране компьютера. Если его качество в силу наличия каких-либо дефектов не удовлетворяет требованиям, мы вновь воспроизводим весь процесс. Если результаты снова оказываются неудовлетворительными, заказчик обычно пытается разобраться, почему используемая им модель несовершенна. И вот тут ему требуется наша помощь.
Согласитесь, консультации, касающиеся любых технологических изменений в процессе изготовления изделия, — это помощь несколько другого уровня, чем та, которую может предоставить дистрибьютор. Потому мы отправляем на места специалистов, которые, разумеется, знают все о нашем программном обеспечении и прекрасно понимают специфику сферы деятельности клиента. Сверхзадача — создать виртуальную среду, отражающую весь процесс производства, а затем использовать ее для перехода предприятия на следующий этап развития путем совершенствования технологических цепочек или использования новых материалов.
Сегодня, например, в авиационной промышленности стало модно использование композиционных материалов. Но «выпеченная» из них в автоклаве деталь зачастую получается, мягко говоря, несовершенной: неровная, с кучей недостатков, полностью обуглившаяся и т.д. Приходится все начинать заново. Год назад одна европейская производственно-конструкторская компания (умолчу, как она называлась) подбила статистику: брак составляет четыре детали из пяти. И речь шла не о сложных, а базовых элементах, таких как топливный бак.
Экспериментальным путем, методом проб и ошибок здесь очень трудно достичь хорошего результата: формула не ясна, нужный материал не создан, технология не разработана. В течение нескольких лет мы занимались разработкой моделей, которые позволяют виртуально представить весь процесс изготовления композитов: соединение волокон, расчет коэффициента пористости, добавление смол, охлаждение под давлением, сопутствующие химические трансформации, помещение изделия в автоклав, регуляция температуры, получение на выходе готовой детали и оценка ее состояния, степени прочности и других свойств.
— Кто ваши крупнейшие клиенты на Урале и в России?
— Прежде всего предприятия авиационной промышленности — «Пермские моторы», «Редуктор ПМ», «Авиадвигатель», «Машиностроитель» (все — Пермь), Уфимское моторостроительное производственное объединение, корпорация «Иркут», рыбинское НПО «Сатурн». Машиностроители — Челябинский тракторный завод, КамАЗ, Siemens в Питере, центр газотурбостроения «Салют» в Москве. Кроме того, мы плотно работаем с наукой и вузами — НИИ авиационных материалов, Центральным институтом авиационного моторостроения, Иркутским госуниверситетом, Казанским техуниверситетом им. Туполева, Самарским государственным аэрокосмическим университетом, Уральским федеральным университетом и многими другими.
— По какому направлению сотрудничаете с УрФУ?
— Моделирование сварочных процессов.
Физика вместо математики
— Как начинался ваш бизнес?— ESI Group почти сорок лет, ее основателем и первым сотрудником был я, тогда только окончивший калифорнийский Беркли. Нельзя сказать, что мы росли бешеными темпами. Лет через 15 число наших сотрудников в головном офисе во Франции увеличилось до 70, а затем и до сотни.
Возможно, вы мне не поверите, но первым нашим проектом было моделирование удара советских ядерных ракет по бункерам, расположенным на плато Альбион в Альпах.
— Признаться честно, я не знаю, что это…
— Это хранилище французских ядерных ракет. Во времена холодной войны наибольшую угрозу для Европы (и Франции в частности) представляло советское атомное оружие. Поэтому наше правительство приняло решение построить в Альпах подземные бункеры, которые сверху должна была накрывать массивная плита — металлический короб, заполненный армированным бетоном. Нашей задачей было смоделировать ядерный удар по бункеру. Что будет в случае прямого попадания? Что случится, если Советы промахнутся (а это было весьма вероятно, потому что русские тогда плохо целились)? Выдержит ли плита, и успеем ли мы вовремя открыть бункер для запуска своих ракет? Это была крайне сложная задача, которой мы занимались около десяти лет. А затем три-четыре года улучшали проект французских атомных подводных лодок, выясняли, какая глубина для них предельна.
Еще один наш проект состоял в расчете параметров антиметеоритного щита для автоматической межпланетной станции Джотто, которую европейцы запустили в космос для исследования кометы Галлея (последний раз проходила перигелий в феврале 1986 года. — Ред.). Этим мы тоже занимались около десяти лет. Правда, у нас было время подготовиться: комета Галлея возвращается к Солнцу примерно раз в 76 лет. И вновь перед нами стояла очень непростая задача — исследовать, что происходит с межпланетной станцией, когда ее на скорости 68 км в секунду атакуют микрочастицы (0,1 грамма) диоксида кремния. И как сделать так, чтобы «Джотто» выдержала и не разрушилась до того, как произведет запланированные измерения.
Но все это — мир виртуальных опытов, визуализации физических процессов. Мы никогда не работали с настоящими ракетами, настоящими бункерами или космическими станциями, никогда не погружали настоящие подлодки на глубину. Оно и понятно: в реальности мы не могли смоделировать ядерный удар или разогнать частицы до 68 км в секунду. Максимум, до 8 — 9 км.
— То есть в составе вашей команды есть еще и физики?
— Вот в физике-то мы как не разбирались, так и не разбираемся. Нам было понятно, что сила удара будет огромной, потому за прототип нужно брать щит Уиппла (защита, состоящая из нескольких слоев, находящихся на определенном расстоянии друг от друга, удар частицы компенсируется обратной волной, которая рождается в результате взаимодействия слоев. — Ред.). Он уже использовался в программе «Аполлон», но в ней максимальная скорость частиц была рассчитана на уровне 30 км в секунду. А у нас — 68.
Мы вынуждены были обратиться за консультациями к специалистам лабораторий в Ливерморе и Лос-Аламосе (тогда мы в основном сотрудничали с американскими университетами; я же учился в США, оброс связями и стараюсь их поддерживать). После их пояснений мы создали математическую модель, подтвердили некоторые ее параметры на оборудовании комиссариата атомной энергетики Франции, разогнав частицы до 9 км в секунду, затем провели еще одни испытания в Германии. В итоге было выработано несколько сценариев, из которых между прочим получился очень красивый фильм.
Университеты, кстати, не всегда нас выручали. Одним из наших проектов была проверка сверхмощного реактора на быстрых нейтронах «Суперфеникс» (тепловая мощность — 3 тыс. МВт, электрическая — 1,2 тыс. МВт, проработал с 1985 по 1997 год, остановлен по требованию партии зеленых. — Ред.). Французы хотели разработать энергоблок с натриевым теплоносителем и водным охлаждением. Логика ясна: жидкие щелочные металлы (а натрий — самый дешевый из них) обладают очень хорошей электропроводностью, оказывают малое коррозионное воздействие на конструкции и т.д. Но взаимодействие их с водой приводит к взрыву.
Нам пришлось работать с огромным резервуаром натрия и плитой, его закрывающей. Подобный опыт, благодаря плато Альбион, у нас был. Но его оказалось недостаточно. Мы вновь обратились за помощью к американским ученым, на что они ответили: «Понятия не имеем, как это можно сделать, все слишком сложно и вообще неосуществимо». Такой ответ нас не остановил. Мы взялись за работу и через несколько лет создали модель, которая основывалась на синтезе множества технологий: мы заимствовали отовсюду понемногу. Хорошее было время.
Авто вместо атома
— А потом время стало плохим?— Отнюдь. Да, холодная война подходила к концу, но мы по-прежнему занимались исследованиями в сфере атомной безопасности, сейсмологии и т.д. На одном остановлюсь подробнее — проект падения на АЭС самолета. Суть даже не в самом решении, которое мы разработали, а в том, что за ним последовало. На презентации в Германии в мае 1978-го ко мне подошел один человек и сказал: «Вы знаете, у нас не самолеты разбиваются, у нас разбиваются автомобили, справитесь с такой задачей?». И я подумал: мы уже моделировали крушение вертолета при ударе о землю, столкновение самолетов в воздухе. Почему бы не взяться за краш-тест автомобиля…
 Конечно, нам сказали, что это невозможно. Поиском цифровых методов для моделирования аварий в то время занимался целый консорциум из семи немецких компаний во главе с Volkswagen. Производителей не устраивало, что каждый краш-тест обходился в сотни тысяч долларов, а объективного результата не давал. Мы разработали решение за полгода, только вот просчет одной ситуации на компьютерах VAX (32-битная компьютерная архитектура, выпущена в середине 1970-x. — Ред.) занимал 400 часов. Выход был в применении суперкомпьютера CRAY (на тот момент позволял производить 133 млн операций в секунду. — Ред.), которыми пользовались только в сфере обороны и метеорологии. Время сокращалось до 20 часов. Путем некоторых преобразований его можно было сократить до десяти. Одна ночь — отлично. Немецкие производители закупили CRAY по цене 20 млн долларов за штуку. Так появился PAM-Crash, первое в мире ПО моделирования краш-тестов.
Конечно, нам сказали, что это невозможно. Поиском цифровых методов для моделирования аварий в то время занимался целый консорциум из семи немецких компаний во главе с Volkswagen. Производителей не устраивало, что каждый краш-тест обходился в сотни тысяч долларов, а объективного результата не давал. Мы разработали решение за полгода, только вот просчет одной ситуации на компьютерах VAX (32-битная компьютерная архитектура, выпущена в середине 1970-x. — Ред.) занимал 400 часов. Выход был в применении суперкомпьютера CRAY (на тот момент позволял производить 133 млн операций в секунду. — Ред.), которыми пользовались только в сфере обороны и метеорологии. Время сокращалось до 20 часов. Путем некоторых преобразований его можно было сократить до десяти. Одна ночь — отлично. Немецкие производители закупили CRAY по цене 20 млн долларов за штуку. Так появился PAM-Crash, первое в мире ПО моделирования краш-тестов.В CRAY поняли: сотрудничество с нами выгодно. Они предложили нам купить продукт, но мы не согласились (в конце концов, это был всего лишь прототип). В итоге было принято решение осваивать новые рынки в одной связке. Так мы вышли в Японию и США. Через два года по крайней мере половина представителей мировой индустрии автомобилестроения имели компьютеры CRAY, на каждом из которых был установлен наш PAM-Crash.
Это было невероятно: 12 лицензий. Мы никогда и не думали, что моделирование краш-тестов станет нашей специализацией. У нас были сотни, тысячи пользователей. Наступило время делать нашу программу проще.
— Зачем?
— Физика — это невероятно сложно, мало кто в ней разбирался в 80-ых и разбирается сейчас. Но денег на модернизацию программы нам не хватало, нужен был дополнительный источник финансирования. Я обращался куда только мог: «Послушайте, у нас есть программный продукт, который должен принести хорошую прибыль, но на его развитие нам нужны деньги». Ответ банков был прост: денег нет. Тогда я пошел в комиссариат атомной энергетики, который в конце 80-х владел 40% нашей компании…
— …Подождите, а когда государство вошло в состав собственников вашей компании?
— Это произошло в середине 80-х. Мы тогда нуждались в использовании мощных вычислительных машин. Такие были только у комиссариата. Но у нас не было средств, чтобы платить за работу на них. Наши клиенты из военной и энергетической областей настаивали на том, чтобы ведомство продавало нам часы дешевле. Чиновники согласились, но взамен потребовали 40% компании.
— И как отреагировал комиссариат?
— Дословно не помню, но смысл был такой: «Программный продукт? Это абсолютно бесполезная вещь, мы в это не верим».
— Что же вас спасло?
— Случай. Один человек, услышавший о нашей компании, рассказал, что в Силиконовой долине у него есть знакомый, занимающийся венчурными инвестициями. Он имел право 5% капитала вложить в европейские фирмы и как раз искал подходящую возможность. Наш проект в его глазах выглядел довольно привлекательным.
— Какой объем финансирования вы подняли?
— 3 млн долларов. Дело было в 1991-м. 16 июля президент Франсуа Миттеран объявил о прекращении во Франции атомной оборонной программы. В этот день мы получили по телексу множество сообщений следующего содержания: «Проект прекращен. Завершаете работу 31 июля. Компенсация составит 4%». Так мы в один день потеряли треть выручки, которая на тот момент достигала примерно 20 млн франков, в грубом пересчете — 3 — 4 млн евро. 3 млн долларов для нас было очень внушительной суммой. И нам исключительно повезло, что американский капиталист приехал на заключение договора 27 июля, через 10 дней после заявления Миттерана.
Тогда же нам пришлось провести реструктуризацию предприятия. Так и родилась ESI Group с отделениями во Франции, Германии, Японии и США, специализирующаяся на ПО для автомобильной промышленности. И именно в этот момент наша компания стала складываться как производитель софта.
На данный момент 70 — 75% выручки нам приносят именно программные продукты, 25 — 30% приходится на сопутствующие услуги: помощь при создании моделей, поиске подходящих испытаний и полигонов, выбор материалов и многое другое.
Инновации вместо науки
— Каков объем вашей выручки сейчас?— По итогам 2011-го — 94 млн евро. За первое полугодие 2012-го прирост по выручке составил 20%. По итогам всего года мы планируем выйти на 110 млн евро.
— Сколько приходится на Францию, Европу в целом, США, Россию?
— В прошлом году на Францию приходилось около 13% нашего товарооборота, 45% — Европа в целом (в основном — Германия), 35% — азиатские страны (Япония, Китай, Южная Корея), 20% — США. Россия, кажется, составляет несколько процентов нашей выручке: на все страны БРИК в прошлом году пришлось 11% (в 2012-м — уже 13%).
— Какие программные продукты наиболее востребованы в России?
— Мы начинали с софта по моделированию процессов литья в черной металлургии, затем пошла штамповка, сварка, термообработка. Взрывную динамику за последние два года продемонстрировали композиты.
— Каков размер штата компании?
— С недавнего времени — около тысячи человек.
— И сколько человек заняты непосредственно НИОКР?
— Научно-исследовательской деятельностью как таковой мы не занимаемся. Это удел более чем 250 университетов и научных центров, с которыми мы сотрудничаем.
— Тогда что же делают ваши R&D-подразделения? Разрабатывают софт?
— Нет, разработать — это полдела. Гораздо важнее добиться 100-процентной эффективности в каждом конкретном случае. Уравнений и моделей множество, что-то нужно упростить, что-то сохранить, что-то поменять, чтобы программа стала надежной и полезной. Сейчас этим занимаются примерно 350 человек.
— А в Екатеринбурге у вас сколько человек работает?
— Мы только начинаем — всего двое. В следующем году, возможно, будет значительно больше.
— Не планируете открывать в России свои R&D-подразделения?
— Планируем. И я думаю, что это может произойти довольно быстро. Обычно такие подразделения открываются, когда мы заключаем договоры о партнерстве в исследованиях с местными вузами. Сейчас мы ведем переговоры сразу с несколькими университетами. То есть R&D может появиться в России через год или два.
— Вы, конечно, обоснуетесь со своим R&D в столице?
— Не могу точно сказать. Учитывая наш опыт работы в сфере ядерной энергетики, металлургии, машиностроении, возможно, нашим специалистам и на Урале будет не так плохо. Кроме того, Екатеринбург — центр региона, где сосредоточены крупные научные лаборатории, высокопрофессиональные знания, где можно создавать команды, способные на инновацию. Наша сфера деятельности — не только бизнес, но еще и творчество.
Однако наиболее важные переговоры в большинстве случаев, конечно, будут проходить в Москве. Точно так же в Китае: мы решаем вопросы в Пекине, Шанхае, Чэнду или Харбине, но все переговоры происходят только в Пекине.
— В Китае вы уже проводите исследования?
— Мы заключили ряд договоров о партнерстве с университетом Цинхуа в Пекине, с Шанхайским университетом и т.д. Мы также состоим в официальном партнерстве с Государственной авиастроительной корпорацией Китая и входящим в нее Пекинским институтом авиационных материалов. Цель — помочь вузу в разработке математических моделей, новых материалов и новых технологий, которые можно будет использовать в рамках всей корпорации. В целом в программировании у нас в Китае задействовано 150 человек.
— Вы финансируете вузовские НИОКР?
— Обычно нет. Их финансированием занимается государство или крупные предприятия. Мы составляем спецификации, используем результаты исследований, оказываем всяческую помощь как нашим клиентам, так и их заказчикам.
— Что для вас означает партнерство?
— Обычно мы вступаем в партнерство с производителями, являющимися мировыми лидерами в своей области или жаждущими ими стать (я бы их назвал «компании с далеко идущими целями»). Наша задача — не копировать то, что уже создано, а делать лучше, быстрее, эффективнее. Понятно же, что целью китайских производителей не является достижение уровня Европейского аэрокосмического и оборонного концерна (EADS, производитель Airbus) или корпорации Boeing. Они стремятся за ближайшие десять лет стать лучше обоих.
В беседах я часто использую образ повара. Предположим, что он все время готовил на костре в степи мясо бизона. И был лучшим в этом деле в своей местности. И вот однажды ему достается современная кухня с кучей всевозможных приборов. И ему говорят: «Теперь ты будешь готовить здесь». Учат, как правильно пользоваться плитой и микроволновкой. Дальше, чтобы быть востребованным, ему нужно научиться готовить суфле. А это не так-то просто. И повара снова нужно учить. Все дело — не в навороченной печи, а в поваре, который хочет или не хочет стать великим кулинарным мастером. С «желающими» мы и заключаем договоры о партнерстве. Важно, чтобы у компании или вуза были, во-первых, далеко идущие цели, во-вторых, вера в успех и, в-третьих, средства для реализации целей.
Наши партнерства, как правило, рассчитаны на три года. В течение первого мы улучшаем существующую технологию, создаем и испытываем инновации, в течение второго — переводим ее в промышленное производство и подтверждаем эффективность. А за третий внедряем серийный выпуск на местах, консультируя клиента по сопутствующим вопросам. И потом начинается следующий трехлетний цикл — еще большее совершенствование технологии. Так может продолжаться бесконечно.
Возьмем, к примеру, Volkswagen. Мы начали работать с компанией над ПО для моделирования краш-тестов больше 20 лет назад: в прошлом году подписали восьмой по счету договор о трехлетнем партнерстве. Далеко идущие цели концерна — к 2018 году стать мировым лидером автомобилестроения. К 2015-му должны быть созданы виртуальные прототипы для всех его основных моделей.
Это означает, что все машины будут создаваться и утверждаться в виртуальном мире, а затем отправляться на автоматизированное производство.
— А что изменится? Автоконцерны и так проектируют все машины с помощью компьютера, с его же помощью передают всю технологическую информацию в другие отделы.
— Вы правы. Но сегодня их специалисты обмениваются геометрией, но не физикой. Это две очень разные вещи.