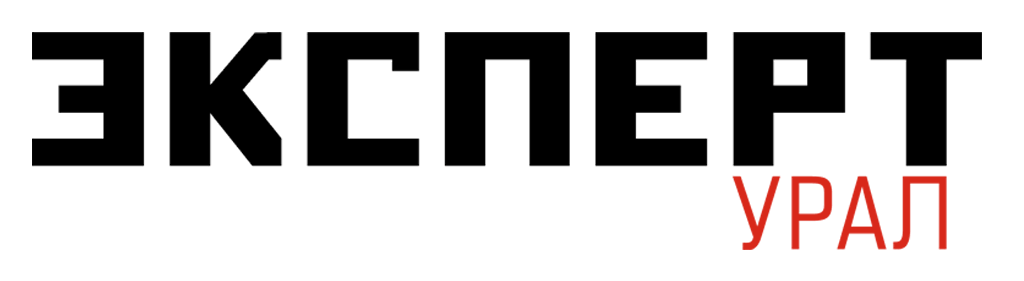–ì–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ç–æ–∫–∏
–¶–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∞—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞
–¶–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∞—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ –∫–æ—Å–∏—Ç —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç—ã —Å –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–æ–π. –ù–æ–≤—ã–µ –º–∞—è–∫–∏ –∏ –¥–≤–∏–∂–∏—Ç–µ–ª–∏ — –ª–æ–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å–æ–æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –∏ –ª–æ–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫–∏
–í –æ–∫—Ç—è–±—Ä–µ –≤ –ï–ª—å—Ü–∏–Ω —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ (–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–±—É—Ä–≥) —Å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –ª–µ–∫—Ü–∏–µ–π «–ö—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–æ–π —ç–ø–æ—Ö–∏: –≤—ã–∑–æ–≤—ã, —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏–∏ –∏ –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–∞» –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∏–ª –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç, –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –∏ –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–æ—Ä –í—ã—Å—à–µ–π —à–∫–æ–ª—ã —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏–∫–∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ê—Ä—Ö–∞–Ω–≥–µ–ª—å—Å–∫–∏–π. –ü–æ—Å–ª–µ –º–µ—Ä–æ–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è «–≠–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç-–£—Ä–∞–ª» –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ –æ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∞—Å–ø–µ–∫—Ç–∞—Ö —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∏–∑–∞—Ü–∏–∏.
–°—É–±—ä–µ–∫—Ç –∏ –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏–π –º–∏—Ä
— –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–æ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–ª–∏ —Å–µ–±—è —Ç–∞–∫–æ–≤—ã–º–∏, –æ–Ω–∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞—é—Ç –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω—ã–µ — –∑–∞—Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –∏ –≤—ã—Ä–∞–∑–∏—Ç—å —Å–≤–æ–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ —ç—Ç–æ–º—É –º–∏—Ä—É. –ö–∞–∫? –õ–∏–±–æ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–æ–π, –ª–∏–±–æ —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–º: –∫–æ–Ω–∫—É—Ä–µ–Ω—Ü–∏—è –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∏ –∏ —Ç–µ–∫—Å—Ç–∞ –ø—Ä–æ—Å–ª–µ–∂–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –≤—Å–µ–π —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏. –ù–æ –∏–∑–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ –∏ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∞, –∏ —Ç–µ–∫—Å—Ç –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞—é—Ç, —á—Ç–æ «–Ø» (–∞–≤—Ç–æ—Ä/—Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫) –Ω–µ —Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä—É–µ—Ç –º–∏—Ä «–∫–∞–∫ –æ–Ω –µ—Å—Ç—å», –∞ —Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä—É–µ—Ç –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ —ç—Ç–æ–º—É –º–∏—Ä—É: –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∞ –∏ —Ç–µ–∫—Å—Ç –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ–± –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–µ–π –º–µ–Ω—è —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∞ –æ –º–æ–µ–º –≤–æ—Å–ø—Ä–∏—è—Ç–∏–∏ —ç—Ç–æ–π —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –í –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤—É —Å—Ç–∞–ª–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –º–∞–ª–æ — –∑–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å —Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –±–µ–∑ —É—á–∞—Å—Ç–∏—è —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –ê –∑–∞—Ç–µ–º — —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —ç—Ç–∏ –æ–±—Ä–∞–∑—ã –≤–æ–≤–Ω–µ —Ç–∞–∫–∂–µ –±–µ–∑ —Å—É–±—ä–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∏—è. –ß—Ç–æ–±—ã «–Ø» —Å–∞–º–æ —Å–µ–±–µ –Ω–µ –º–µ—à–∞–ª–æ.
–ß–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–æ —à–ª–æ –∫ —ç—Ç–æ–º—É –º–Ω–æ–≥–∏–µ –≤–µ–∫–∞, —ç—Ç–æ –±—ã–ª –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –∏ –ø—Ä–æ—Ä—ã–≤, –∏ –ª–æ–≤—É—à–∫–∞. –ü–æ—á–µ–º—É –ª–æ–≤—É—à–∫–∞: –º—ã –≤—Ä–æ–¥–µ –±—ã —É–±—Ä–∞–ª–∏ —Å—É–±—ä–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π —Ñ–∞–∫—Ç–æ—Ä — —ç—Ç–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞–º –≤—Å–µ –≤—Ä–µ–º—è –º–µ—à–∞–ª, –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–∞–ª –≤—Å–µ —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫ –µ–º—É —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è, –∞ –Ω–µ —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫–æ–≤–∞ «—Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–∞–º–∞ –ø–æ —Å–µ–±–µ», –∏ –¥–∞–∂–µ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫—É –º–µ–∂–¥—É –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–º –∏ –∑—Ä–∏—Ç–µ–ª–µ–º… –ù–æ –≤–¥—Ä—É–≥ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —ç—Ç–∏ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ª–∏—Ä—É–µ–º—ã–µ –æ–±—Ä–∞–∑—ã —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –º–æ–∂–Ω–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –º–∏—Ä–æ–º.
–°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –º–∏—Ä –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞–ª –∫–∏–Ω–µ–º–∞—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ. –ö–ª—é—á–µ–≤—ã–º —Ñ–∞–∫—Ç–æ—Ä–æ–º –≤ —ç—Ç–æ–º —Å—Ç–∞–ª–∞ –ü–µ—Ä–≤–∞—è –º–∏—Ä–æ–≤–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞: –≤–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, –æ–Ω–∞ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞, —á—Ç–æ –¥–≤–∏–∂—É—â–∞—è—Å—è –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∞ —É–±–µ–∂–¥–∞–µ—Ç –ª—é–¥–µ–π –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ —Å–∏–ª—å–Ω–µ–µ, —á–µ–º –Ω–µ–ø–æ–¥–≤–∏–∂–Ω–∞—è. –í–æ-–≤—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –ü–µ—Ä–≤–æ–π –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å—ä–µ–º–∫–∏ —Å –ø–æ–ª—è –±–æ—è –≤–æ–∑–¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—Ç –Ω–∞ —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ —Å –∫—É–¥–∞ –º–µ–Ω—å—à–µ–π —Å–∏–ª–æ–π, —á–µ–º —Å—Ç–∏–ª–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–¥ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å—ä–µ–º–∫–∏ –≤ –ø–∞–≤–∏–ª—å–æ–Ω–µ. –≠—Ç–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª —Ä–µ–∂–∏—Å—Å–µ—Ä –î—ç–≤–∏–¥ –£–æ—Ä–∫ –ì—Ä–∏—Ñ—Ñ–∏—Ç: –æ–Ω –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å —á–µ—Å—Ç–Ω–æ –Ω–∞ –ø–æ–ª—è—Ö —Å—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–π, –Ω–æ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ —Å—ä–µ–º–∫–∏, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –æ–±–∑–æ—Ä–∞, –∏ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, —ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –∫–∞–¥—Ä–æ–≤ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –æ—á–µ–Ω—å –Ω–∏–∑–∫–∏–º–∏, –∏ –ì—Ä–∏—Ñ—Ñ–∏—Ç—Å –Ω–∞—á–∞–ª —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É —Ñ–∏–ª—å–º–∞ –≤ –ø–∞–≤–∏–ª—å–æ–Ω–µ, –≤—ã–¥–∞–≤–∞—è –∫–∞–¥—Ä—ã –∑–∞ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ.
–ó–∞—Ç–µ–º –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –≥–µ–≥–µ–º–æ–Ω–∏—è —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–¥–µ–Ω–∏—è. –í–æ–π–Ω—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –º–µ–¥–∏–π–Ω—ã–º–∏, –ø–µ—Ä–≤–∞—è — «–ë—É—Ä—è –≤ –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–µ» — –µ–µ –Ω–∞—á–∞–ª–æ –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å CNN. –¢–µ–ª–µ–≤–∏–¥–µ–Ω–∏–µ –≤—ã—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–æ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç–∞—Ä–Ω—ã–π –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ –∏–Ω—Ç–µ–≥—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –º–µ–¥–∏–π–Ω—ã–π –º–∏—Ä.
–í—Å–µ–≤–ª–∞—Å—Ç–∏–µ —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–¥–µ–Ω–∏—è —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏–ª–∞ —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∏–∑–∞—Ü–∏—è. –≠—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∑–∂–µ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö –∫–æ–º–ø—å—é—Ç–µ—Ä–æ–≤ — –∫–æ–≥–¥–∞ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∞ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á–∏ –Ω–µ—Ç–µ–ª–µ–≤–∏–∑–∏–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ. –ü—Ä–∏—á–µ–º –Ω–µ–ø–æ—Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞—á–∞–ª–æ–º –ø–∞–¥–µ–Ω–∏—è –≥–µ–≥–µ–º–æ–Ω–∏–∏ —Å—Ç–∞–ª —Å–ª—É—á–∞–π–Ω—ã–π —Ç—ã–∫, –∫–æ–≥–¥–∞ –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏–π –±–µ–∑–¥–µ–ª—å–Ω–∏–∫ –ë—Ä—ç–¥ –§–∏—Ç—Ü–ø–∞—Ç—Ä–∏–∫ –≤ 1999 –≥–æ–¥—É –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª –ø–µ—Ä–≤—É—é —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—É—é —Å–µ—Ç—å –ñ–∏–≤–æ–π –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª. –û–Ω —É–µ–∑–∂–∞–ª –Ω–∞ –æ–¥–∏–Ω —Å–µ–º–µ—Å—Ç—Ä –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–π —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç, –µ–º—É –ª–µ–Ω—å –±—ã–ª–æ –ø–∏—Å–∞—Ç—å –≤—Å–µ–º –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—é—â–∏–µ –ø–∏—Å—å–º–∞ –ø—Ä–æ —ç—Ç–æ, –∏ –æ–Ω –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª, –∫–∞–∫ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø —Å–∞–π—Ç–∞ –∏ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–∏—Å—å–º–∞, –∫–∞–∫ –ø–∏—Å–∞—Ç—å –≤—Å–µ–º —Å—Ä–∞–∑—É. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –º–∏—Ä —Ç–æ–ª—å–∫–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –∏ –∂–¥–∞–ª — –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—è –Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ.
–ù–æ –¥–ª—è —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö —Å—Ñ–µ—Ä –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∞—è —ç–ø–æ—Ö–∞ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∞ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∞ –∏ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã. –í –±—É–¥—É—â–µ–µ —è —Å–º–æ—Ç—Ä—é –æ–ø—Ç–∏–º–∏—Å—Ç–∏—á–Ω–æ: –ø–æ–∫–∞ –º—ã –±—É–¥–µ–º —ç—Ç–∏ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã —Ä–µ—à–∞—Ç—å, –º—ã –±—É–¥–µ–º —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è. –í–æ–æ–±—â–µ, –º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏–∏ –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—ã: –º—ã –∏—Ö –ø—Ä–∏–¥—É–º—ã–≤–∞–µ–º –¥–ª—è —É–¥–æ–±—Å—Ç–≤–∞, –∑–∞—Ç–µ–º –∏–º–µ–µ–º –¥–µ–ª–æ —Å –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è–º–∏; –∏–º–µ—è –¥–µ–ª–æ —Å –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è–º–∏, –º—ã —Å–∞–º–∏ –º–µ–Ω—è–µ–º—Å—è, –∞ –º–µ–Ω—è—è—Å—å, –ø—Ä–∏–¥—É–º—ã–≤–∞–µ–º –¥—Ä—É–≥–∏–µ —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏–∏ — –∏ —Ç–∞–∫ —Ü–∏–∫–ª –∑–∞ —Ü–∏–∫–ª–æ–º.
–°—É–±—ä–µ–∫—Ç –∏ –º–∞—à–∏–Ω–∞
 — –í–∏–¥–∏—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º —à–∞–≥–æ–º —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥ –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –∫–æ–Ω—Ç–µ–Ω—Ç–∞ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–µ–∫—Ç–∞. –ü–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è —Ä–µ—à–∞—Ç—å, –±—É–¥—É—Ç –≥–∏–≥–∞–Ω—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –º–∞—Å—à—Ç–∞–±–∞…
— –í–∏–¥–∏—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º —à–∞–≥–æ–º —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥ –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –∫–æ–Ω—Ç–µ–Ω—Ç–∞ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–µ–∫—Ç–∞. –ü–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è —Ä–µ—à–∞—Ç—å, –±—É–¥—É—Ç –≥–∏–≥–∞–Ω—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –º–∞—Å—à—Ç–∞–±–∞…
— –ü—Ä–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–µ–∫—Ç –∏ –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º–∏–∑–∞—Ü–∏—é —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–≤ –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ù–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑—É–º–∞, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å –º–æ–¥–µ–ª–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –º–æ–∂–µ—Ç —Å–∞–º–∞ —Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –∑–∞–¥–∞—á–∏ –∏ –æ–±—É—á–∞—Ç—å –∏—Ö —Ä–µ—à–∞—Ç—å, –Ω–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É–µ—Ç. –°–∏–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–µ–∫—Ç–∞, —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–º–±–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∏–∞–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º—ã –¥–ª—è —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –∑–∞–¥–∞—á–∏, —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ—Ç. –ï—Å—Ç—å —Å–ª–∞–±—ã–π –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–µ–∫—Ç — —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é—â–∞—è –≤ —Ä–∞–º–∫–∞—Ö –∑–∞–¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º–∞.
–ß–µ–º —ç—Ç–æ —á—Ä–µ–≤–∞—Ç–æ? –ù—É, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —Å–ø–æ—Ä—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –æ–±–∑–æ—Ä—ã –ø–∏—à–µ—Ç –º–∞—à–∏–Ω–∞, —É–∂–µ –∫–∞–∫ –º–∏–Ω–∏–º—É–º –ø—è—Ç—å-—à–µ—Å—Ç—å —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–π –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ —Å –∂–∏–≤—ã—Ö –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º—ã. –§–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—ã–µ –æ–±–∑–æ—Ä—ã —Ç–æ–∂–µ –ø–∏—à–µ—Ç –º–∞—à–∏–Ω–∞, –∏ –ø–∏—à–µ—Ç –ª—É—á—à–µ, —á–µ–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ê –≤–æ—Ç —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—ã–µ –ø—Ä–æ–≥–Ω–æ–∑—ã — —É–∂–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, —Ç—É—Ç –ª—É—á—à–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –≤ «—Å–æ–∞–≤—Ç–æ—Ä—Å—Ç–≤–µ». –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ 10 — 15 –ª–µ—Ç –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–µ—Ç –Ω—É–∂–¥–∞ –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è—Ö —Ñ–æ—Ä–º–∞—Ç–Ω—ã—Ö –∂–∞–Ω—Ä–æ–≤ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —Å—é–∂–µ—Ç–Ω—ã–µ —Ö–æ–¥—ã –¥–ª—è –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –¥–µ—Ç–µ–∫—Ç–∏–≤–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç –ª—É—á—à–µ, —á–µ–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, — –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ —Ä–∞–∑–≤–ª–µ–∫–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã –±—É–¥–µ—Ç –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–æ. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –æ–∫—Ç—è–±—Ä—è –ê–∫—É–Ω–∏–Ω-–ß—Ö–∞—Ä—Ç–∏—à–≤–∏–ª–∏ –æ–±—ä—è–≤–∏–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤ –æ–Ω –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π —Ä–æ–º–∞–Ω –ø—Ä–æ –§–∞–Ω–¥–æ—Ä–∏–Ω–∞ –∏ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–∞–µ—Ç —ç—Ç–æ—Ç —Ü–∏–∫–ª. –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π –®–∞–ª–≤–æ–≤–∏—á — —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –æ—á–µ–Ω—å —É–º–Ω—ã–π –∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —Å—á–∏—Ç–∞—é—â–∏–π: –æ–Ω –≤–æ—à–µ–ª –≤ —ç—Ç–æ—Ç —Ä—ã–Ω–æ–∫, –∫–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–æ –Ω—É–∂–Ω–æ, –∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –∏–∑ –Ω–µ–≥–æ –∑–∞ —á–∞—Å –¥–æ –∫—Ä–∞—Ö–∞.
–û—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, —á—Ç–æ —Ü–µ–ª—ã–µ –ø–ª–∞—Å—Ç—ã –Ω–æ–Ω-—Ñ–∏–∫—à–Ω —É–π–¥—É—Ç –∫ –º–∞—à–∏–Ω–µ, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ—á–Ω–æ, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤—ã—Ö —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏–π –º–∞—à–∏–Ω–∞ —Å–¥–µ–ª–∞–µ—Ç –∫–Ω–∏–∂–∫—É –ª—É—á—à–µ, —á–µ–º —è: –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–Ω—å–∫–æ –≤—Å–µ –æ–±–æ–±—â–∏—Ç, –≤—ã—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç –≤ —Ö—Ä–æ–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—é, —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—á–Ω–æ —Ä–∞–∑–æ–±—å–µ—Ç –ø–æ –≥–ª–∞–≤–∞–º, –∏ —É–∂ —Ç–æ—á–Ω–æ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç, –∫–∞–∫ —è, –¥–æ–ª–≥–æ –∏—Å–∫–∞—Ç—å –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∏ –ø–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç—É. –ù–æ –Ω–µ –≤–µ—Å—å –Ω–æ–Ω-—Ñ–∏–∫—à–Ω. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –ø–∏—Å–∞—Ç—å, —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, –∫–∞–∫ –ú–∞—à–∞ –ì–µ—Å—Å–µ–Ω –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ –ü–µ—Ä–µ–ª—å–º–∞–Ω–∞, –º–∞—à–∏–Ω–∞ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç.
— –ü–æ—á–µ–º—É?
— –ú–æ–∂–µ–º –ª–∏ –º—ã –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –Ω–∞–ø–∏—à–µ—Ç –∫–Ω–∏–≥—É, —Å–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–º—É—é —Å «–í–æ–π–Ω–æ–π –∏ –º–∏—Ä–æ–º»? –í –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–µ –º–æ–∂–µ–º,–Ω–æ –∫–∞–∫–æ–≤—ã —É—Å–ª–æ–≤–∏—è? –¢–æ—Ç, –∫—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –ø–∏—Å–∞—Ç—å –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º, –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –æ–±–ª–∞–¥–∞—Ç—å –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏–º –≥–µ–Ω–∏–µ–º —É—Ä–æ–≤–Ω—è –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –∑–∞–¥—É–º–∞—Ç—å –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ, –¥–∞ –µ—â–µ –∏ –≥–µ–Ω–∏–µ–º –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–∏—Å—Ç–∞, —á—Ç–æ–±—ã —Å–æ–∑–¥–∞—Ç—å –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º. –≠—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ—Ä–µ–Ω—Ç–∞–±–µ–ª—å–Ω–æ — —Ç–∞–∫ —á—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ –∑–∞—á–µ–º.
–¢–∞–∫ —á—Ç–æ –≤—Å–µ —à—Ç—É—á–Ω–æ–µ, —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–µ, –Ω–µ–ø—Ä–µ–¥—Å–∫–∞–∑—É–µ–º–æ–µ, –Ω–∞—Ä—É—à–∞—é—â–µ–µ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—ã — –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è –∑–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º; –≤—Å–µ –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º–∏–∑–∏—Ä—É–µ–º–æ–µ —É–π–¥–µ—Ç –∫ –º–∞—à–∏–Ω–µ. –¢–æ –∂–µ —Å —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–æ—Ä–∞–º–∏. –Ý–µ–¥–∞–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤-–∞—Å–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–∏–¥—è—Ç –∑–∞–º—ã—Å–µ–ª –∫–Ω–∏–≥–∏, –º–∞—à–∏–Ω—ã –Ω–µ –∑–∞–º–µ–Ω—è—Ç. –Ý–µ–¥–∞–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤-—Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–æ–≤ — –∑–∞–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ.
–ü–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å — –Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å — —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å…
— –í 1974 –≥–æ–¥—É —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç –ò–ª–ª–∏–Ω–æ–π—Å–∫–æ–≥–æ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç–∞ –ú–∞–π–∫–ª –•–∞—Ä—Ç –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –¥–æ—Å—Ç—É–ø –∫ –º–∞—à–∏–Ω–Ω–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏. –ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –¥–ª—è —Ç–∞–∫–æ–π –µ—Ä—É–Ω–¥—ã, –∫–∞–∫ –ø–µ—Ä–≤–∞—è —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–∞—è –∫–Ω–∏–∂–∫–∞, –Ω–∏–∫—Ç–æ –±—ã –µ–º—É –¥–æ—Å—Ç—É–ø –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–º—É –º–∞—à–∏–Ω–Ω–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –Ω–µ –¥–∞–ª, –∏ –æ–Ω, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ —á–∞—Å—Ç–æ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –±—ã–≤–∞–ª–æ, –ø–æ–¥–º–µ–Ω–∏–ª –∑–∞–∫–∞–∑. –ò —Å–æ–∑–¥–∞–ª –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç «–ì—É—Ç—Ç–µ–Ω–±–µ—Ä–≥». –û–Ω –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä, –Ω–µ –ø—Ä–æ—Ü–≤–µ—Ç–∞–µ—Ç, –Ω–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–º –±—ã–ª–∞ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤–∞—è –≤ –º–∏—Ä–µ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–∞—è –∫–Ω–∏–≥–∞. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤—Å–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –µ—Ä—É–Ω–¥–∞, –ø–æ—Ç–æ–º —Å—Ç–∞–ª–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å — –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –∑–∞—Ç–µ–º — —á—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–∞–∫ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∏ –±—É–¥–µ—Ç, —á—Ç–æ –±—É–º–∞–∂–Ω–∞—è –∫–Ω–∏–≥–∞ –∏—Å—á–µ–∑–Ω–µ—Ç. –°—Ç–∏–≤–µ–Ω –ö–∏–Ω–≥ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤ –º–∏—Ä–µ —ç–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç –ø–æ –≤—ã–ø—É—Å–∫—É –∫–Ω–∏–≥–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ä–µ–¥–µ: –Ω–∞ —Ä—É–±–µ–∂–µ 2000/2001 –≥–æ–¥–æ–≤ –æ–Ω —Å—Ç–∞–ª –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å —Å–≤–æ–π —Ä–æ–º–∞–Ω «–ü–ª—é—â» –ø–æ –≥–ª–∞–≤–∞–º –ø–æ –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∫–µ –∏ –±–µ–∑ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–π — –ø–µ—Ä–≤–∞—è –≥–ª–∞–≤–∞ –±—ã–ª–∞ –≤—ã–≤–µ—à–µ–Ω–∞ –Ω–∞ —Å–∞–π—Ç–µ –±–µ—Å–ø–ª–∞—Ç–Ω–æ, –∑–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å. –≠–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç –ö–∏–Ω–≥ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª — –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—á–∏–∫–æ–≤ –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –Ω–∞—á–∞–ª–æ –ø–∞–¥–∞—Ç—å. –ù–æ –∏–∑ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç: –ö–∏–Ω–≥ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∏–ª —Ä–∞–Ω—å—à–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ — —ç–ø–æ—Ö–∞ –µ—â–µ –Ω–µ –±—ã–ª–∞ –≥–æ—Ç–æ–≤–∞.
–°–∞–º—ã–π —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç—ã–π –∫–Ω–∏–∂–Ω—ã–π —Ä—ã–Ω–æ–∫ –Ω–∞ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è—à–Ω–∏–π –¥–µ–Ω—å –≤ –°–®–ê, –¥–æ 2015 –≥–æ–¥–∞ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–æ–¥–∞–≤–∞–µ–º—ã—Ö —ç–∫–∑–µ–º–ø–ª—è—Ä–æ–≤ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∫–Ω–∏–≥ —Ä–æ—Å–ª–æ, –∞ –±—É–º–∞–∂–Ω—ã—Ö — –ø–∞–¥–∞–ª–æ, —Å 2015-–≥–æ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è —Å—Ç–∞–±–∏–ª–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å. –°–æ–æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ — 25% —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—ã—Ö/75% –±—É–º–∞–∂–Ω—ã—Ö. –ù–æ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Å—Ç–æ–∏—Ç —É–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –∫–∞–∫–∏–µ –±—É–º–∞–∂–Ω—ã–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ø—Ä–æ–¥–∞—é—Ç—Å—è –ª—É—á—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ — —ç—Ç–æ –∫–Ω–∏–∂–∫–∏-—Ä–∞—Å–∫—Ä–∞—Å–∫–∏ –¥–ª—è –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã—Ö. –ö–Ω–∏–≥–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ç–∏–ø–∞ —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Å–ø–∞—Å–ª–∏ –æ—Ç –∫—Ä–∞—Ö–∞ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–µ –±—É–º–∞–∂–Ω–æ–µ –∫–Ω–∏–≥–æ–∏–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –≤ 2015 — 2016 –≥–æ–¥–∞—Ö.
— –ß–∏—Å—Ç–∞—è —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –±—É–º–∞–∂–Ω—ã—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü!
— –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –ª—é–±–∏–º—ã–π —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –∫–æ–Ω—Ü–∞ 90-—Ö –ø—Ä–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤ –∫–æ–º–ø—å—é—Ç–µ—Ä–µ –∫–Ω–∏–∂–∫–∏ —á–∏—Ç–∞—Ç—å –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –∏—Å—á–µ–∑–∞–µ—Ç –∑–∞–ø–∞—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü, –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ –±—É–º–∞–≥–∏… –ú–æ–π —Ç–µ—Å—Ç—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É 86 –ª–µ—Ç, —Ç–æ–∂–µ —Ç–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –≤ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–∂–∫–µ –º–æ–∂–Ω–æ —à—Ä–∏—Ñ—Ç —É–≤–µ–ª–∏—á–∏—Ç—å — –Ω—É –∏ –≤—Å–µ, –±—É–º–∞–≥–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –Ω–µ —É –¥–µ–ª.
— –¢–æ –µ—Å—Ç—å —Ñ–æ—Ä–º–∞ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∞—Å—å, –Ω–æ –≤—Å–µ –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É?
— –ù–µ—Ç, —á—Ç–µ–Ω–∏–µ –∫–Ω–∏–≥ (–Ω–µ —á—Ç–µ–Ω–∏–µ –∫–∞–∫ —Ç–∞–∫–æ–≤–æ–µ) –∫–∞–∫ –≤–æ—Å–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏–º—ã–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –∏–Ω—Å—Ç–∏–Ω–∫—Ç —Å–æ–∫—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è. –ó–∞—Ç–æ —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ç –∏–Ω—Å—Ç–∏–Ω–∫—Ç –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–∏—è –∫–Ω–∏–≥. –¢–æ –µ—Å—Ç—å —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∞—è —ç–ø–æ—Ö–∞ –ø—Ä–æ–≤–æ—Ü–∏—Ä—É–µ—Ç –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–µ (–∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –Ω–µ–ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–µ) —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–æ, –Ω–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–≤–æ—Ü–∏—Ä—É–µ—Ç –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å –∫ —á—É–∂–æ–º—É –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–Ω–∏—é. –ì–ª–∞–≤–Ω–∞—è –∂–∞–ª–æ–±–∞ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è: –º–æ—è —Ä—É–∫–æ–ø–∏—Å—å –ª–µ–∂–∏—Ç –≤ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ. –î–∞–∂–µ –±—ã–ª —Ç–∞–∫–æ–π –æ—Ç–≤–µ—Ç: «–∫–Ω–∏–≥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –Ω–µ –ª–µ–∂–∏—Ç –≤ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ, –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –∏–∑–¥–∞–Ω–∞». –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–∞—è —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è: –∏–∑–¥–∞—Ç—å –∫–Ω–∏–∂–∫—É — –Ω–µ–¥–µ–ª–∏ —Ç—Ä–∏. –í–æ–ø—Ä–æ—Å, –∫–∞–∫ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å —É–∑–Ω–∞–ª –æ –µ–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–∏. –ï—Å–ª–∏ –∫–∞–∂–¥—ã–π –º–æ–∂–µ—Ç –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –∫–Ω–∏–∂–∫—É,
—Ç–æ –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, –∫—Ç–æ –∏—Ö –±—É–¥–µ—Ç —á–∏—Ç–∞—Ç—å.
— –≠—Ç–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∏–ª–∏ –ø–ª–æ—Ö–æ?
— –°—Ç–∞–ª–æ –ª–∏ –ª—É—á—à–µ? –°—Ç–∞–ª–æ –∏–Ω–∞—á–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –≤ –ø—Ä–µ–∂–Ω—é—é —ç–ø–æ—Ö—É —Ö–æ—Ç–µ–ª –Ω–∞—á–∞—Ç—å, –æ–Ω –Ω–µ –º–æ–≥ –ø—Ä–æ–±–∏—Ç—å—Å—è –≤ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ. –û–Ω —Ö–æ–¥–∏–ª, –æ–±–∏–≤–∞–ª –ø–æ—Ä–æ–≥–∏, –Ω–∏–∫—Ç–æ –µ–≥–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –ø–æ—Ç–æ–º, –º–æ–∂–µ—Ç, –∫ 50 –≥–æ–¥–∞–º, –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞–ª –∫–Ω–∏–∂–∫—É — –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ –µ–≥–æ –≤—Ä–æ–¥–µ –∫–∞–∫ –∑–∞–º–µ—á–∞–ª–∏. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –æ–Ω –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç –∫–Ω–∏–∂–∫—É –∏ —Ö–æ–¥–∏—Ç –ø–æ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—è–º — «—á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å, –ø—Ä–æ—á—Ç–∏ –º–µ–Ω—è».
–ó–∞—Ç–æ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –Ω–æ–≤—ã–π —Ä—ã–Ω–æ–∫, –æ–Ω –µ—â–µ –Ω–µ–∑–∞–Ω—è—Ç—ã–π. –Ø —Å–≤–æ–∏–º —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–∞–º –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä—é: –µ—Å–ª–∏ –≤—ã –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–µ—Ç–µ, –∫–∞–∫ –≤ —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤—É—é —ç–ø–æ—Ö—É –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞ –∏ —Å–æ–∑–¥–∞–¥–∏—Ç–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ —É—Å–ª—É–≥ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –∫–Ω–∏–∂–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–æ–≤ –ø–æ–¥ –∫–ª—é—á — –≤—ã –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π –±–∏–∑–Ω–µ—Å. –≠—Ç–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ –≤–æ—Å—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–æ, –Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∞ –Ω–∞ —ç—Ç—É –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ—Ç. –ú—ã —Ç–æ—á–Ω–æ –∑–Ω–∞–µ–º, —á—Ç–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ —Å—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—è –±—É–∫-—Ç—Ä–µ–π–ª–µ—Ä–æ–≤. –ú—ã –≤–∏–¥–∏–º, —á—Ç–æ –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –∫–Ω–∏–∂–Ω—ã–π –≤–∏–¥–µ–æ–±–ª–æ–≥–≥–∏–Ω–≥: –ø–æ—á–µ–º—É —ç—Ç–æ —Å–º–æ—Ç—Ä—è—Ç –∏ –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç — —è –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, –Ω–æ —ç—Ç–æ –≤–ª–∏—è–µ—Ç. –ü–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É –µ—Å—Ç—å –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–∏: –µ—Å–ª–∏ –æ —á–µ–º-—Ç–æ –ø–∏—à–µ—Ç –ì–∞–ª–∏–Ω–∞ –Æ–∑–µ—Ñ–æ–≤–∏—á — –¥–ª—è –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π —ç—Ç–æ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –≤–∞–∂–Ω–æ. –ù–æ –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞–º–Ω–æ–≥–æ –º–µ–Ω—å—à–µ
— –£—Ö–æ–¥ –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–æ–≤ —Å–æ —Å—Ü–µ–Ω—ã — —ç—Ç–æ —Ç–æ–∂–µ —Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–µ —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∏–∑–∞—Ü–∏–∏?
— –ù–µ –¥—É–º–∞—é. –≠—Ç–æ –Ω–∞—à–∞ –º–µ—Å—Ç–Ω–∞—è —Å–ø–µ-—Ü–∏—Ñ–∏–∫–∞. –ö—Ä–∏—Ç–∏–∫–∞ — –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–∞—è, –∏ —Ç–µ–∞—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–∞—è, –∏ –∫–∏–Ω–æ—à–Ω–∞—è — —ç—Ç–æ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∏–∑–≤–∞–Ω–∏–µ, –Ω–æ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏ –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏—è. –í –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞. –í—ã –º–æ–∂–µ—Ç–µ –ø–∏—Å–∞—Ç—å –∫–Ω–∏–≥–∏, –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞—è –≥–æ–Ω–æ—Ä–∞—Ä–æ–≤, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –≤–∞—à–µ –ø—Ä–∏–∑–≤–∞–Ω–∏–µ: –∑–∞—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç–µ –æ–¥–Ω–∏–º, —Ä–µ–∞–ª–∏–∑—É–µ—Ç–µ—Å—å –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º — –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å —É–¥–æ–±–Ω–æ, –Ω–æ —Å—Ö–µ–º–∞ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–∞. –ê –µ—Å–ª–∏ –≤—ã –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫, —Ç–æ –≤—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –∑–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –ø–æ–ª—É—á–∞—Ç—å –¥–µ–Ω—å–≥–∏: —ç—Ç–æ –∂ –Ω–∞–¥–æ —á–∏—Ç–∞—Ç—å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –∫–Ω–∏–≥, —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–æ–∫ — –¥–µ–ª–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –±–µ—Å–ø–ª–∞—Ç–Ω–æ –∏ –≤ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ò —É –Ω–∞—Å –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É—é—Ç –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–∏ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–æ–≤ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ—Ç. –°–ª–∞–≤–∞ –±–æ–≥—É, —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞ –∑–Ω–∞–µ—Ç –ì–∞–ª–∏–Ω—É –Æ–∑–µ—Ñ–æ–≤–∏—á –∏ –ù–∞—Ç–∞–ª—å—é –ö–æ—á–µ—Ç–∫–æ–≤—É — —É–∂–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –¢–æ –µ—Å—Ç—å —ç—Ç–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –∏ —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—ã–π, –∞ –Ω–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏–π.
— –§–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—ã–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –µ—â–µ –∏ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—ã–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –∫—É–¥–∞ —Å–ª–æ–∂–Ω–µ–µ –ø—Ä–æ–¥–∞–≤–∞—Ç—å, —á–µ–º –±—É–º–∞–∂–Ω—ã–µ.
— –° –º–æ–µ–π —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è, –≤ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–º –º–∏—Ä–µ —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤—ã–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –Ω–µ–ø—Ä–æ–ø–æ—Ä—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏: –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ —Å–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–º–æ, –∞ —Ç–æ –∏ –¥–æ—Ä–æ–∂–µ, —á–µ–º –Ω–∞ –±—É–º–∞–≥–µ. –•–æ—Ç—è —Ç–∞–º –≤ —Ü–µ–ª–æ–º –Ω–∞—É—á–∏–ª–∏ –ª—é–¥–µ–π –∑–∞ –Ω–∏—Ö –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å. –í –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –º—ã –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫–ª–∏, —á—Ç–æ —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤—É—é –∫–Ω–∏–∂–∫—É –Ω–∞–¥–æ –ø–æ–∫—É–ø–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –±—É–º–∞–∂–Ω—É—é. –í –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–µ –º–æ–∂–Ω–æ —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ª—é–¥–∏ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—ã–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –≤—Å–µ –∂–µ –ø–æ–∫—É–ø–∞–ª–∏ — —Å–∫–∞–∂–µ–º, –∫—Ä–∏–º–∏–Ω–∞–ª–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–∏—Ç–µ–ª—è, –∞ –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤—â–∏–∫–∞. –ö–∞–∫ –≤ —Ä—è–¥–µ —Å—Ç—Ä–∞–Ω –ï–≤—Ä–æ–ø—ã: –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç—É—Ü–∏—è —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∞, –∞ –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –µ—é –∑–∞–ø—Ä–µ—â–µ–Ω–æ.
— –ê –≤ –∫–∞–∫–æ–π —Ä–æ–ª–∏ –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –±—É–º–∞–∂–Ω—ã–µ –∫–Ω–∏–≥–∏?
— –ö–∞–∫ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç —Ä–æ—Å–∫–æ—à–∏ — –Ω–µ –≤ —Å–º—ã—Å–ª–µ –∫–æ–∂–∞–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª–µ—Ç–∞, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –≤—ã–±–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∏–∑ –æ–±—ã–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∞–≤–∏–ª. –Ý–æ—Å–∫–æ—à—å — —ç—Ç–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –±–µ—Å–ø–æ–ª–µ–∑–Ω–æ. –í—ã –±—É–º–∞–∂–Ω—É—é –∫–Ω–∏–≥—É –¥–µ—Ä–∂–∏—Ç–µ –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö — –ø–æ–º–∏–º–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏, –æ–Ω–∞ –µ—â–µ –∏ —Å–∞–º–∞ — –æ–±—ä–µ–∫—Ç. –ü—Ä–∏—á–µ–º –∫–∞–∫ –Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏ –æ–Ω–∞ –±–µ—Å–ø–æ–ª–µ–∑–Ω–∞ — —Å –ø–ª–∞–Ω—à–µ—Ç–∞ —è –ø—Ä–æ—á—Ç—É –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ. –ù–æ –æ–±—â–∞—è—Å—å —Å –∫–Ω–∏–≥–æ–π, —è –≤—ã–±–∏–≤–∞—é—Å—å –∏–∑ —Ç–æ–≥–æ –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –º–Ω–µ –Ω–∞–≤—è–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –µ–π —è –±—É–¥—É –æ—â—É—â–∞—Ç—å –∏ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞—Ç—å —Å–µ–±—è –∫–∞–∫ —Å–µ–±—è —Å–∞–º–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –∞ –Ω–µ —á–∞—Å—Ç—å –º–∞—Å—Å—ã.
–¢–∞–∫ –∏ –≥–∞–∑–µ—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ä–∞–Ω—å—à–µ –±—ã–ª–∞ –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç–æ–º –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞, —Å–µ–π—á–∞—Å —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–æ–º —Ä–æ—Å–∫–æ—à–∏. –ù–µ —Å–±—É–¥–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–æ–≥–Ω–æ–∑ –ú–µ—Ä–¥–æ–∫–∞ –æ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –≥–∞–∑–µ—Ç, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å —Ç—É–¥–∞, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –≤—ã—à–ª–∏ — –≤ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–µ –∫–∞—Ñ–µ –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –±–µ—Å–ø–ª–∞—Ç–Ω–æ–≥–æ —Ä–æ—Å–∫–æ—à–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –∫ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫—É –ø–æ –∑–∞–≤—ã—à–µ–Ω–Ω–æ–π —Ü–µ–Ω–µ.
— –ü–æ—á–µ–º—É —Ç–∞–∫?
— –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –Ω–∞—à–∞ –∂–∏–∑–Ω—å –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ —Ç—Ä–∞–≤–º–∞—Ç–∏—á–Ω–∞, —Ü–µ–Ω–∞ –Ω–∞—à–µ–≥–æ —É—Å–ø–µ—Ö–∞ –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ –≤—ã—Å–æ–∫–∞, –º—ã –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –≥–∏–≥–∞–Ω—Ç—Å–∫–æ–π –º—è—Å–æ—Ä—É–±–∫–∏, –∏ —Ç–æ—Ç, –∫—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç –Ω–∞—Å –∏–∑ —ç—Ç–æ–π –º—è—Å–æ—Ä—É–±–∫–∏ –≤—ã—Ç–∞—â–∏—Ç—å –∏ –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å –Ω–∞ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é —É–¥–æ–±–Ω—É—é —Ç–∞—Ä–µ–ª–æ—á–∫—É, –±—É–¥–µ—Ç —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞—Ç—å –Ω–∞–º –±–ª–∞–≥–æ, –∏ –º—ã –±—É–¥–µ–º –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –µ–º—É —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ. –≠—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å –≤–∏–Ω–∏–ª–æ–≤—ã—Ö –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω–æ–∫, –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å –±—É–º–∞–∂–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–≥–∏, –ø–∞—Ö–Ω—É—â–∏—Ö —Ç–∏–ø–æ–≥—Ä–∞—Ñ—Å–∫–æ–π –∫—Ä–∞—Å–∫–æ–π –≥–∞–∑–µ—Ç.
–Ý–µ–∫–ª–∞–º–æ–¥–∞—Ç–µ–ª—å
— –í–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–µ—Ç —Ç–∞–∫–æ–µ —è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ, –∫–∞–∫ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–º–µ–¥–∏–∞. –Ý–∞–Ω—å—à–µ, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª–∏—Å—Ç—ã —Å–Ω–∏–º–∞–ª–∏ —Ñ–∏–ª—å–º –ø—Ä–æ –±–µ–∑–¥–æ–º–Ω—ã—Ö, –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –ø–æ —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–¥–µ–Ω–∏—é, –∏ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç –±—É–¥–µ—Ç —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å—Å—è –∏–Ω–∞—á–µ: –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–ª–µ—Ñ–∏–ª—å–º–æ–º –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–Ω–µ—Ç —Å–∞–π—Ç, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –º—ã –±—É–¥–µ–º —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –æ —Å—É–¥—å–±–µ —Ç–µ—Ö –±–µ–∑–¥–æ–º–Ω—ã—Ö, –∫–∞–∫–∏—Ö –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –≤ –∫–∏–Ω–æ; –¥–∞–ª—å—à–µ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–Ω–µ—Ç –≤–æ–ª–æ–Ω—Ç–µ—Ä—Å–∫–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –Ω–∞—á–Ω–µ—Ç —ç—Ç–∏–º –±–µ–∑–¥–æ–º–Ω—ã–º –ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç—å — –º–∞–ª–æ –∏—Ö –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –Ω–∞–¥–æ –∂–µ –∏–∑–º–µ–Ω–∏—Ç—å –∏—Ö —Å—É–¥—å–±—É. –ó–∞—Ç–µ–º –Ω–∞—á–Ω–µ—Ç—Å—è —Å–±–æ—Ä —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤ –Ω–∞ –∫—Ä–∞—É–¥—Ñ–∞–Ω–¥–∏–Ω–≥–æ–≤—ã—Ö –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∞—Ö –¥–ª—è –ø–æ–º–æ—â–∏ — —Ç–∞–º –º—ã —Ç–æ–∂–µ –±—É–¥–µ–º –ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞—Ç—å —Ä–µ–ø–æ—Ä—Ç–∞–∂–∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç—Å—è –∏ –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –º–µ–Ω—è–µ—Ç –∂–∏–∑–Ω—å –Ω–∞—à–∏—Ö –≥–µ—Ä–æ–µ–≤. –ó–∞—Ç–µ–º –º—ã —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–Ω–∏–º–µ–º —Ñ–∏–ª—å–º –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∞—Å—å —Å—É–¥—å–±–∞ —ç—Ç–∏—Ö –±–µ–∑–¥–æ–º–Ω—ã—Ö –≤ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –º—ã –∑–∞–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ —ç—Ç–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ, –∏ —Ç.–¥. –ö–æ—Ä–æ—á–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, —ç—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –º–µ–Ω—è–µ—Ç—Å—è –≤ –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏
–æ—Ç –ø–ª–∞—Ç—Ñ–æ—Ä–º—ã, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º—ã —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Ç—Ä–∞–Ω—Å–º–µ–¥–∏–π–Ω—ã–π –º–∏—Ä — –º–∏—Ä –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –≤ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–µ –Ω–µ–∑–∞–≤–µ—Ä—à–∞–µ–º—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–π.
— –ß—Ç–æ –≤ —Ç—Ä–∞—Å–º–µ–¥–∏–π–Ω–æ–º –º–∏—Ä–µ –∏–≥—Ä–∞–µ—Ç —Å—Ç–∞–±–∏–ª–∏–∑–∏—Ä—É—é—â—É—é –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—â—É—é —Ä–æ–ª—å? –Ý–∞–Ω—å—à–µ — —Ä–∞–º–∫–∏ –∂–∞–Ω—Ä–∞, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—è. –ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å? –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑, –Ω–∞—Ä—Ä–∞—Ç–∏–≤?
— –î–∞, —Å—Ç–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª–ª–∏–Ω–≥: –º—ã –≤—Å–µ — —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—á–∏–∫–∏ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–π. –í–æ–æ–±—â–µ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –≤ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∏–∫–µ, —Ç–∞–∫ –≤ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–µ — —É–º–µ–Ω–∏–µ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∏–∑ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é –≤ –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ, –∫—É–¥–∞ —Ç–µ–±—è –ø–æ–≤–µ–ª —Å—é–∂–µ—Ç. –í–æ—Ç –ø–æ—ç–º–∞ «–ú–µ—Ä—Ç–≤—ã–µ –¥—É—à–∏»: —Ç–∞–º –µ—Å—Ç—å –ª–∏—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏—è –≤ –ø—Ä–æ–∑–µ, –µ—Å—Ç—å –≤—Å—Ç–∞–≤–Ω–∞—è –∞–≤–∞–Ω—Ç—é—Ä–Ω–∞—è –ø–æ–≤–µ—Å—Ç—å –æ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω–µ –ö–æ–ø–µ–π–∫–∏–Ω–µ, –Ω—Ä–∞–≤–æ–æ–ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ä–æ–º–∞–Ω — –∏ —ç—Ç–æ –≤—Å–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç –∫–∞–∫ –µ–¥–∏–Ω–∞—è –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç–µ–±—è –∑–∞—Å–∞—Å—ã–≤–∞–µ—Ç. –ê —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –∏ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–π –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç —Ç—Ä–µ–±—É–µ—Ç –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å —É–º–µ–Ω–∏—è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏, –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥—è –∏–∑ –∂–∞–Ω—Ä–∞ –≤ –∂–∞–Ω—Ä.
— –ó–≤—É—á–∏—Ç –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ, –≤–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∏–∫–µ —Å –¥–µ–Ω—å–≥–∞–º–∏ –µ—â–µ —Ö—É–∂–µ, —á–µ–º –Ω–∞ –∫–Ω–∏–∂–Ω–æ–º —Ä—ã–Ω–∫–µ.
— –ó–∞—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —Ä–µ–∫–ª–∞–º–µ. –° –∫–Ω–∏–∂–∫–∞–º–∏ — –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–∞—è —Å–ª–æ–∂–Ω–∞—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è, —Å –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∏–∫–æ–π — —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–µ–∫–ª–∞–º–∞. –ù—É –∏ —Å–ø–æ–Ω—Å–æ—Ä—Å—Ç–≤–æ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ.
— –ê –ø–æ–∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è? –í –®—Ç–∞—Ç–∞—Ö —Ç–∞–∫–∞—è –º–æ–¥–µ–ª—å –Ω–µ–ø–ª–æ—Ö–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞ –º—É–Ω–∏—Ü–∏–ø–∞–ª—å–Ω–æ–º —É—Ä–æ–≤–Ω–µ.
— –í –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ª—é–¥–∏ –±–µ–¥–Ω—ã–µ. –ë–µ–¥–Ω–µ–µ, —á–µ–º –≤ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–µ. –ò –ø—Ä–∏–≤—ã—á–∫–∏ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ—Ç. –í –∫–∞–∫–æ–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç –æ–Ω–∞ —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è, –º—ã –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ–º; –¥–æ–∂–∏–≤–µ—Ç –ª–∏ –¥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∏–∫–∞ — –Ω–µ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω. –°–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è, –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –¥—Ä–∞–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è: —Ä–µ–∫–ª–∞–º–Ω—ã–π —Ä—ã–Ω–æ–∫ –∑–∞–≤–∏—Å–∏—Ç –æ—Ç –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ — –≤ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –Ω–∏–∫—Ç–æ —Ä–µ–∫–ª–∞–º—É –Ω–µ –ø–æ–Ω–µ—Å–µ—Ç, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ —Ä–∏—Å–∫–∏. –°–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –ª–∏—à—å –Ω–∏—à–∞ –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—é—â–∏—Ö—Å—è –∏ –æ—Ç—Ä–∞–∂–∞—é—â–∏—Ö—Å—è –¥—Ä—É–≥
–≤ –¥—Ä—É–≥–µ –≥–ª—è–Ω—Ü–µ–≤—ã—Ö –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–π.
— –ö—Ä–∞—É–¥—Ñ–∞–Ω–¥–∏–Ω–≥?
— –í –∫—Ä–∞—É–¥—Ñ–∞–Ω–¥–∏–Ω–≥ –≤–µ—Ä—é. –ù–æ —ç—Ç–æ —Ä–∞–∑–æ–≤–æ: –Ω–∞ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –Ω–∞ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –∫–Ω–∏–∂–∫–∏, –¥–µ–Ω—å–≥–∏ —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å –º–æ–∂–Ω–æ, –Ω–∞ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ –∂–∏–∑–Ω–∏ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–∏ — –Ω–µ—Ç. –ö–Ω–æ–ø–∫–∞ «–ë–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å» –Ω–∞ —Å–∞–π—Ç–µ –Ω–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç. –ì—Ä—É–±–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, –∫–∞–∫ —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –Ω–∞ –Ω–µ–∏–≥—Ä–æ–≤–æ–µ –∫–∏–Ω–æ, –∏ –ø—Ä–∏ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ —Å–æ–±–µ—Ä—É. –ê –∫–∞–∫ —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á—É, —è –Ω–µ –∑–Ω–∞—é; –¥–µ–ª–∞—è –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á—É, —è —Ç–æ—Ç–∞–ª—å–Ω–æ –∑–∞–≤–∏—à—É –æ—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–¥–∞—Ç–µ–ª—è — —Ç–æ –µ—Å—Ç—å –æ—Ç –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞.
–ú–µ—Å—Ç–∞ –∏ —Ü–∏—Ñ—Ä—ã
— –¶–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∞—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ –ø–æ—Ä–æ–∂–¥–∞–µ—Ç –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—É. –í —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–æ–º –º–∏—Ä–µ –º–Ω–µ —á–∞—â–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç –ø—Ä–æ—â–µ –≤—ã—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –∫–æ–º–º—É–Ω–∏–∫–∞—Ü–∏—é —Å –∫–æ–ª–ª–µ–≥–æ–π, —Å–∫–∞–∂–µ–º, –∏–∑ –¢–∞–Ω–∑–∞–Ω–∏–∏, —á–µ–º —Å —Å–æ—Å–µ–¥–æ–º –ø–æ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—á–Ω–æ–π –∫–ª–µ—Ç–∫–µ. –ù–æ –≤–µ–¥—å –º—ã –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É –∂–∏–≤–µ–º –≤ –º–∏—Ä–µ, —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–æ–º —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ, –∏ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –≤—ã–±–∏—Ä–∞–µ–º –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Å–æ—Å–µ–¥–æ–º –ø–æ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—á–Ω–æ–π –∫–ª–µ—Ç–∫–µ. –ú—ã –∂–∏–≤–µ–º –≤ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞—Ö, –æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫–∏ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ, –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –º—ã –∂–∏–≤–µ–º –≤ —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–µ, –æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –Ω–∞ –±—É–¥—É—â–µ–µ. –ú—ã –≤–∏–¥–∏–º, –∫–∞–∫ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª–∏ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å—Å—è –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏: –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ –µ—Å—Ç—å –¥–≤–µ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ — –ö–ü–Ý–§, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∞ –≤ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–º –°–æ—é–∑–µ, –∏ –õ–î–ü–Ý — –Ω–∞ –∏–∑–ª–µ—Ç–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏. –ù–µ –∏–º–µ–µ—Ç –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è, –∫–∞–∫ —è –∫ –Ω–∏–º –æ—Ç–Ω–æ—à—É—Å—å, —è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ–¥—á–µ—Ä–∫–∏–≤–∞—é, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –ø–æ —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–µ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏. –í—Å–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ — —ç—Ç–æ –º–∞—à–∏–Ω—ã –¥–ª—è –≥–æ–ª–æ—Å–æ–≤–∞–Ω–∏—è. –í–æ –≤—Å–µ–º –º–∏—Ä–µ —Ç–∞–∫, –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç–µ, –∫–∞–∫ –ø–æ–±–µ–¥–∏–ª –ú–∞–∫—Ä–æ–Ω: –≤—ã—à–µ–¥—à–∏–π –∏–∑ –≤—Å–µ—Ö –ø–∞—Ä—Ç–∏–π –Ω–∞–¥–ø–∞—Ä—Ç–∏–π–Ω—ã–π –∫–∞–Ω–¥–∏–¥–∞—Ç. –ù–∞–¥–Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–π –º–∏—Ä —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—Å—è, –∞ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–∏–µ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç—ã –≤ –Ω–µ–º –Ω–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é—Ç.
–•–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∞ –ø–æ–∫–∞ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª. –ê —É –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–µ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ — –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –º—ã –≤—Å–µ –∑–∞–º–æ—Ä–æ–∑–∏–º, –ø–µ—Ä–µ—Å–µ—á–µ–º, –∑–∞–∫—Ä–æ–µ–º, –∑–∞–ø—Ä–µ—Ç–∏–º… –¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–æ: –º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏ –º–æ–º–µ–Ω—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞–º–æ—Ä–æ–∑–∏—Ç—å, –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å, –ø—Ä–æ–ø—É—â–µ–Ω — –¥–∂–∏–Ω–Ω–∞ –∏–∑ –±—É—Ç—ã–ª–∫–∏ –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏. –ù—É –≤–æ—Ç –≤ –ö–∏—Ç–∞–µ –∑–∞–ø—Ä–µ—â–µ–Ω —Ñ–µ–π—Å–±—É–∫. –ò —á—Ç–æ? –ü–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–∞ –ö–∏—Ç–∞—è —Å–∏–¥–∏—Ç –≤ —Ñ–µ–π—Å–±—É–∫–µ.
— –í—Å–µ –∂–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –∫–∞–∫ –º–∏–Ω–∏–º—É–º —Ç–µ–ª–æ–º –∂–∏–≤–µ—Ç –≤ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –∞ –Ω–µ –≤ —Ñ–µ–π—Å–±—É–∫–µ. –ò –º–µ—Å—Ç–∞ —ç—Ç–∏ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ. –ù–µ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç—å, –æ—Ç—Ä–∏—Ü–∞—Ç—å —ç—Ç–∏ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏—è — —Ç–æ–∂–µ –∏–ª–ª—é–∑–æ—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ—Å—Ç—å — —ç—Ç–æ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –∑–∞–¥–∞—á–∞ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã, –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–π –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–∏. –ù–æ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å –±—É–¥—Ç–æ –±—ã –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω—ã–π, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —ç—Ç–æ –≤–∏–¥–Ω–æ –Ω–∞ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–º —É—Ä–æ–≤–Ω–µ.
— –° –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∞—è —ç–ø–æ—Ö–∞ –Ω–∏–≤–µ–ª–∏—Ä—É–µ—Ç –≤—Å–µ, –≤–∫–ª—é—á–∞—è —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏—è. –ê–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º –æ–Ω –∏ –µ—Å—Ç—å –∞–ª–≥–æ—Ä–∏—Ç–º, —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∞—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ —Å–æ–∫—Ä—É—à–∞–µ—Ç —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏—è — –º–æ–∂–µ—Ç, —ç—Ç–æ –µ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ–∫, –Ω–æ –∏ –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ —Ç–æ–∂–µ. –° –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –¥–∞–µ—Ç –ø—Ä–∞–≤–æ –Ω–∞ —Ä–µ–ø—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏—é —Å–∞–º–∏—Ö —Å–µ–±—è —Ç–∞–∫–∏–º–∏, –∫–∞–∫–∏–µ –≤—ã –µ—Å—Ç—å — –ø—Ä–∞–≤–æ –Ω–∞ –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ. –î–∞, –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ø—ã—Ç–∞—é—Ç—Å—è –≤–µ—Å—Ç–∏ –µ–¥–∏–Ω—É—é —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—É—é –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω—É—é –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫—É. –ß—Ç–æ–± –≤—Å–µ –±—ã–ª–∏ –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–º–∏ — –º—ã –Ω–µ —Ü–µ–Ω–∏–º —Å–≤–æ–∏ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏—è, –º—ã –Ω–µ —Å—É–º–µ–ª–∏ –æ—Å–º—ã—Å–ª–∏—Ç—å —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏—è –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ, –∞ –Ω–µ –∫–∞–∫ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ–∫. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å—Ç–æ–∏–ª–æ –±—ã –ø—Ä–∏–¥—É–º—ã–≤–∞—Ç—å –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç—ã, —Å–≤—è–∑—ã–≤–∞—é—â–∏–µ –Ω–∞—Å —Ç–∞–∫–∏—Ö —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö, –∞ –Ω–µ –æ—Ç–º–µ–Ω—è—Ç—å –Ω–∞—à—É —Ä–∞–∑–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏—Ç–≤–æ—Ä—è—Ç—å—Å—è, –±—É–¥—Ç–æ –º—ã –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã–µ.
–ù–æ —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∞—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–µ—Ç —Ä–µ–∞–ª–∏–∑–æ–≤—ã–≤–∞—Ç—å –∫–∞–∫ –µ–¥–∏–Ω—É—é –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫—É —Å–≤–µ—Ä—Ö—É, —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –æ—Ç–ª–∏—á–∏–π. –ü—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª—è—Ç—å –ª–æ–∫–∞–ª—å–Ω—É—é –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—É —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –ø—Ä–æ—â–µ. –Ý–∞–Ω—å—à–µ —ç—Ç–æ —Ç–æ–∂–µ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å, –Ω–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ. –ê —Å–µ–π—á–∞—Å –∫–∞–∫ –º–∏–Ω–∏–º—É–º —É–¥–µ—à–µ–≤–∏–ª–æ—Å—å. –í–æ—Ç, —Å–∫–∞–∂–µ–º, –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–±—É—Ä–≥–∞ –º–Ω–æ–≥–æ –≤–∞–∂–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –º–µ—Å—Ç, –ø—Ä–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞ –º–∞–ª–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç. –ö–∞–∫ –∏—Ö –º–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–∏—Ç—å? –õ—é–¥–µ–π –≤—ã —Å—é–¥–∞ –Ω–µ –∑–∞—Ç–∞—â–∏—Ç–µ, –∞ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –≤–∏—Ä—Ç—É–∞–ª—å–Ω–æ — –º–æ–∂–Ω–æ. –ù–æ —Ç–∞–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–æ–≤ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –æ—á–µ–Ω—å –º–∞–ª–æ. –í–µ–¥—å —ç—Ç–æ –Ω–µ—Å–ª–æ–∂–Ω–æ: –µ—Å—Ç—å —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç—ã —É—Ä–∞–ª—å—Å–∫–∏—Ö –≤—É–∑–æ–≤, –µ—Å—Ç—å –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–µ –±—é–¥–∂–µ—Ç—ã — –Ω–æ –¥–ª—è —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–æ–≤ —ç—Ç–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ. –°—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–∞–º –≤—ã –¥–∞–µ—Ç–µ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫—É, –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–º –∫—Ä–∞–µ–≤–µ–¥–∞–º — –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–∏—Ç—å —Å–µ–±—è, –∏ –∑–∞–º—ã–∫–∞–µ—Ç–µ –∏—Ö –¥—Ä—É–≥ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∞.
— –Ý–µ–ø—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å—Ç–∞–ª–æ –ª–µ–≥—á–µ. –¢–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ–±—ã –±—ã–ª–æ —á—Ç–æ —Ä–µ–ø—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, –Ω–∞–¥–æ –±—ã —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ—Å–º—ã—Å–ª–∏—Ç—å —Å–µ–±—è –Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª–µ–º —ç—Ç–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã — –∏ —Å —ç—Ç–∏–º –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–µ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø–æ-–º–æ–µ–º—É.
— –î–∞, —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–æ–º –±—É–¥–µ—Ç —Ä–µ–ø—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏—è, –Ω–æ –≤ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–µ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –Ω–∞—á–Ω–µ—Ç—Å—è –≤—ã—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–Ω–∏–µ –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–≤—è–∑–µ–π. –°–æ–≤–º–µ—Å—Ç–Ω–∞—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä—É–µ—Ç –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–µ –ª–æ–∫–∞–ª—å–Ω–æ–µ —Å–æ–æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ. –û–Ω–æ —Ä–∞—Å–ø–∞–¥–µ—Ç—Å—è –ø–æ—Å–ª–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–∞, –Ω–æ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–Ω–µ—Ç –¥—Ä—É–≥–æ–π –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç, –ø–µ—Ä–µ—Ç–µ—á–µ—Ç –≤ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π — –∏ —ç—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ–µ –±—Ä–æ—É–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –ª–æ–∫–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–æ–æ–±—â–µ—Å—Ç–≤. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –±—É–¥–µ—Ç —Å–æ–∑–¥–∞—Ç—å –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–µ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ, –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –ø–æ—è–≤–∏—Ç—Å—è —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å, –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –ª–∏—Ü–æ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞, –æ—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–∞—è —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–∞—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞. –ê –Ω–µ –ø–∞–º—è—Ç—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ.
— –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –ª–∏ —Å–∏—Å—Ç–µ–º–Ω–æ –≤—ã—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –∂–∏–≤–æ–π –ø–æ–¥—É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å, –¥–æ–ø–æ–ª–Ω—è—é—â–∏–π —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—É—é —É—Ä–∞–≤–Ω–∏–ª–æ–≤–∫—É? –ù–∞ —á—Ç–æ –æ–ø–µ—Ä–µ—Ç—å—Å—è: —Å—É–±—ä–µ–∫—Ç—ã —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏, –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏, –º—É–Ω–∏—Ü–∏–ø–∏–∏?
— –Ø –Ω–µ –º—ã—Å–ª—é —Ç–∞–∫–∏–º–∏ –∫–∞—Ç–µ–≥–æ—Ä–∏—è–º–∏ –≤ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–µ. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞—Ç—å –µ–¥–∏–Ω—É—é –º–æ–¥–µ–ª—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—É–¥–µ—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –≤–æ –≤—Å–µ—Ö —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞—Ö. –ú–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ, —á—Ç–æ –≤ —ç—Ç–æ–º –º–∏—Ä–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É–µ—Ç, — —ç—Ç–æ –ª–æ–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫–∏ –∏ –ª–æ–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å–æ–æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞, –∏—Ö –º–∞—Å—à—Ç–∞–± –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –ª—é–±—ã–º. –õ—é–¥–∏ –≤ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–µ –≤–∑–∞–∏–º–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è –º–µ–Ω—è—é—Ç—Å—è —Å–∏–ª—å–Ω–µ–µ, —á–µ–º –ø–æ–¥ –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ–º –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –∏–¥–µ–π, –∞ —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —Å—Ö–µ–º.
–ó–∞–º–µ—Ç—å—Ç–µ, –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è —Å–ø–ª–æ—à—å –∏ —Ä—è–¥–æ–º —É—Å–ø–µ—à–Ω—ã. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, «–ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –∞–¥—Ä–µ—Å»: –¥–∞, –µ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—é—Ç –ª—é–¥–∏,–Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ –æ–ø–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ, –Ω–æ –≤ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–µ —É –Ω–∏—Ö –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è –≤—ã—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å —Ä–∞–±–æ—Ç—É, –∞ –≤ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ñ–µ—Ä–µ — –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è. «–°–∏–Ω–∏–µ –≤–µ–¥–µ—Ä–∫–∏», –î–∏—Å—Å–µ—Ä–Ω–µ—Ç… –í—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç–µ, –±—ã–ª –ø–µ—Ä–∏–æ–¥, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ –±–ª–∞–≥–æ—Ç–≤–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –° –Ω—É–ª–µ–≤—ã—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —ç–Ω—Ç—É–∑–∏–∞—Å—Ç–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∑–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª–∏ –∏–Ω–∞—á–µ —É—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –∂–∏–∑–Ω—å –≤–æ–∫—Ä—É–≥. –ö–∞–∂–¥—ã–π –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è —Å–≤–æ–∏–º: –æ–¥–Ω–∏ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ–º–æ—â—å—é –±–æ–ª—å–Ω—ã–º –¥–µ—Ç—è–º, –¥—Ä—É–≥–∏–µ — –ø–æ–º–æ—â—å—é —Ç–µ–º, –∫—Ç–æ –ø–æ–º–æ–≥–∞–µ—Ç… –ò —Ü–µ–ª—å –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∞ –ª—é–¥–µ–π.
–í—ã–≤–æ–¥ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π: —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç—Å—è —Å–≤–µ—Ä—Ö—É — –ø—Ä–µ—Å–µ–∫–∞–µ—Ç—Å—è, –∞ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ, –∏–¥—É—â–µ–µ —Å–Ω–∏–∑—É, –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è. –ù–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –≤–æ –≤—Å–µ–º –º–∏—Ä–µ. –ò —è —É–≤–µ—Ä–µ–Ω, —á—Ç–æ –≤–ª–∞—Å—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–π–º–µ—Ç, —á—Ç–æ –∑–∞ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è–º–∏ —Å–∏–ª–∞, –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç –∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç: –≤–æ–∑—å–º–∏—Ç–µ —É –º–µ–Ω—è –¥–µ–Ω—å–≥–∏, —á—Ç–æ–±—ã —è –≤–∞–º –ø–æ–º–æ–≥–ª–∞.