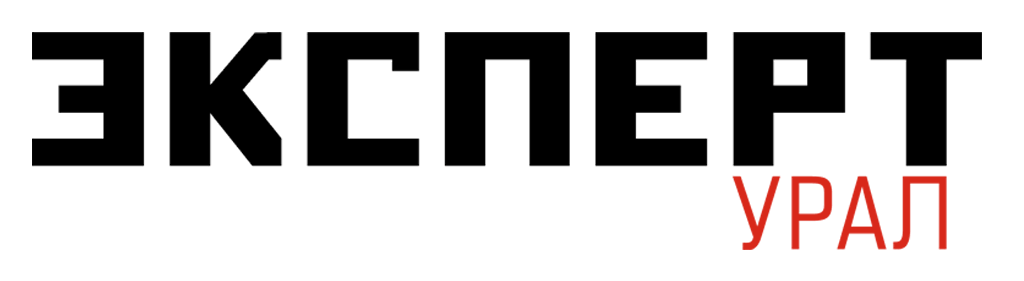Переходим к стагнации
Появятся ли в 2025 году новые драйверы у российской промышленности, рассказал эксперт

фото пресс-службы УрФУ
Сильный рост промышленного производства сгенерирован ограниченным числом секторов, в основном завязанных на оборонном комплексе
О ключевых трендах развития промышленного сектора «Эксперт-Урал» поговорил с заместителем генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимиром Сальниковым.
Узкий круг драйверов
— На что указывает статистика промышленного производства по итогам 2024 года?
— Мы считаем 2024 год годом торможения экономики и перехода к стагнации. Да, общие итоги года получились впечатляющие: прирост ВВП на 4,1%, промышленности — на 4,6%. Это очень высокие темпы на фоне не самых благоприятных внешних условий.
Однако следует учитывать, что этот рост во многом объясняется эффектом базы. При сравнении показателей «год к году» прирост выпуска достигается в том числе за счет роста в предшествующие периоды (в нашем случае — в 2023-м и начале 2024 года). Более объективную картину оценки текущей тенденции дает анализ тренда — помесячного или поквартального изменения интересующего показателя с устранением сезонного фактора. Эти расчеты говорят о том, что промышленность вошла в стагнацию с мая прошлого года; поквартальные темпы ВВП (пока есть данные только до III квартала) демонстрируют резкое замедление его прироста (с 1,2% за квартал в 2023 году до 0,6% в 2024 году).
Но самое интересное заключается в структурных особенностях роста. Если мы из общепромышленного индекса вычтем доступные данные по оборонно-промышленному комплексу, динамика будет еще ниже. Данные по сектору ОПК закрыты, но есть несколько отраслей, где вес ОПК является преобладающим. Это производство готовых металлических изделий, компьютеров, электронных оптических приборов, летательных аппаратов и прочих транспортных средств. Если рассмотреть промышленность без этих секторов, то прирост выпуска оценивается не в 4,6%, а всего в 1,3%. То есть наш повышенный рост сгенерирован очень небольшим числом секторов, в которых велико влияние «оборонки».
И дальше, боюсь, действие стагнационных факторов будет только усиливаться. Во-первых, потому что бюджетный импульс спроса со стороны государства ослабевает. Во-вторых, серьезной проблемой остается нехватка кадров. Наконец, даже при благоприятном развитии переговорного процесса вряд ли быстро снимется санкционное давление.
И на этом фоне мы получили беспрецедентное ужесточение денежно-кредитной политики. Это серьезный фактор, который будет усиливать стагнацию. Стоимость кредитов сейчас уже вышла на запредельный уровень. Мало того, ставка стала настолько высокой, что начала дестимулировать инвестиции: доходность ОФЗ превышает уровень рентабельности в большинстве отраслей. Получается, что компаниям выгоднее держать средства на депозитах и получать неплохую доходность, причем практически без рисков, в отличие от ведения бизнеса.
И все эти факторы в этом году приведут к дальнейшему торможению, возможно даже некоторое снижение выпуска в отдельные месяцы или кварталы.
— Есть ли сектора промышленности, помимо «оборонки», которые на этом фоне чувствуют себя более уверенно?
— По-прежнему растет пищевая промышленность: +3,5% по итогам 2024 года. Этот рост поддерживают доходы населения, а также отчасти эффект импортозамещения, которым компании этого сектора начали заниматься довольно давно.
Из других крупных секторов рост наблюдался в целлюлозно-бумажной (+5,6%) и химической промышленности (+3,1%). Во многом это обеспечено большими инвестициями. Сектора оказались привлекательными, потому что у нас есть мощное конкурентное преимущество в виде собственного дешевого сырья. Буквально в последние несколько лет были введены большие мощности по производству бумажных изделий, полиэтилена, упаковки — того, что мы раньше импортировали.
Я бы обратил внимание на еще два сектора, которые вошли в позитивное поле. Правда, рост там имел характер восстановительного после большого шокового спада. Это автопром (+16,5%) и деревообработка (+4,2%).
— Кто в прошлом году оказался в негативном поле?
— Прежде всего добыча углеводородов. Сейчас, как известно, детальная информация закрыта, официальных цифр в деталях нет, но в целом по сектору нефти и газа падение оценивается в полтора процента по объемам. И это еще неплохой результат с учетом того, что санкции постоянно усиливались. Могло быть и хуже. В нефтедобыче основной фактор связан с добровольным уменьшением объемов производства в рамках соглашения ОПЕК+ для поддержания мировых цен, а также с уменьшением спроса со стороны нефтепереработки.
В производстве нефтепродуктов ситуация хуже, там снижение на 2,1% по итогам года. А между тем по итогам 2023 года нефтепереработка показывала рост на 2,5%. В 2024 году проявляется влияние специфического фактора: атаки на нефтеперерабатывающие заводы приводили к перебоям в работе установок.
Проблемы сейчас испытывает также черная металлургия (-1,2% по году). Спрос на мировом рынке низкий из-за насыщения рынка и общего торможения мировой экономики, особенно китайской. Раньше активное инфраструктурное и жилищное строительство в Китае поддерживало потребление нашего металла.
А в Китае своих мощностей достаточно, и на внутреннем рынке сложился избыток предложения, который выплескивается на внешний рынок. Так что нашим металлургам приходится тяжеловато. Просел и российский внутренний спрос, который поддерживался высоким уровнем активности жилищного строительства.
Да, потребление металла отчасти поддержала оборонная промышленность, но на фоне всего спектра факторов этого металлургам недостаточно.
Машины и люди
— В прошлом году невероятными темпами росло машиностроение. Чем можно объяснить динамику выше 19%?
— Эта отрасль очень неоднородная. Как я уже отмечал, сектора, привязанные к оборонному комплексу, растут, и в среднем на 30%, а есть и больше. У них проблемы другого порядка — где найти дополнительных сотрудников и как мощности расширить.
Есть сектора, где определенные стимулы задало государство, оценив, что для обеспечения технологического суверенитета нужно принимать программы их развития. К ним относятся станкостроение, энергомашиностроение, транспортное машиностроение, производство подшипников, электроники и ряд других.
В некоторых случаях проявляется эффект импортозамещения. Характерный пример — производство подшипников. Мы его практически потеряли за последние 30 лет. А сейчас начали развивать, но об устойчивом росте пока сложно говорить, поскольку крайне сильны китайские конкуренты.
С другой стороны, у нас есть сегменты, где производство было, но построенное на сильной зависимости от импорта комплектующих. По такой модели развивался наш автопром, стройдормаш, производство ряда видов бытовой техники, и сейчас после спада идет восстановление.
Расшивать ограничения нужно за счет роста вложений капитала, но высокая ставка дестимулирует инвестиции
Где-то работают специфические факторы. Например, для производителей лифтов открылась ниша после ухода западных компаний. Но они в полной мере не могут воспользоваться этим «окном» из-за проблем со стороны спроса: ведомства не могут выстроить канал устойчивого финансирования в рамках программ капремонта.
— Есть ли потенциал роста отрасли за счет экспорта?
— На азиатские и ближневосточные рынки прорваться сложно, какое-то время ограниченно шел экспорт в страны СНГ. Но, к сожалению, рынки многих из этих стран мы потеряли. С этим регионом мы порой работали по остаточному принципу, и наши потенциальные покупатели переориентировались на другие поставки.
— Как проявляется эффект импортозамещения в машиностроении?
— Мне кажется, в этом отношении у многих несколько завышенные ожидания, подчас можно слышать красивые лозунги… Нормальное импортозамещение предполагает инвестиции в новое производство, и эффект измеряется на горизонте как минимум пятилетки. Пока можно говорить только о том, что в большинстве секторов, где эти процессы уже были, они продолжаются, и это хорошо. Но в некоторых есть проблемы. Взять тот же автопром: фактически мы занялись замещением одного импорта на другой. Но раньше западным производителям масштабы нашего рынка были интересны с точки зрения развития производства. А Китай наши масштабы не устраивают, у него есть возможности продвигаться на рынках других стран.
Как я уже отмечал, нормальное импортозамещение опирается на развертывание новых производств, а инвестиции — это процесс небыстрый, его нельзя реализовать за год-два. Поэтому пока мы видим только эффект легкого импортозамещения в отдельных сегментах, которых совсем немного.
Полноценное импортозамещение в сложных технологичных секторах идет там, где есть целенаправленная политика на обеспечение суверенитета. Но здесь получается все далеко не всегда так, как хочется. К примеру, авиастроению с трудом удается реализовывать амбициозные планы.
Горизонт-2025
— Появятся ли в этом году новые драйверы у промышленности?
— Для поддержки текущих уровней выпуска факторов достаточно. Но серьезных драйверов для увеличения не просматривается. Мы уже вышли на высокий уровень загрузки мощностей и задействования имеющихся на рынке кадров, расшивать ограничения надо было бы инвестициями, но ДКП, как я отмечал, сейчас этот процесс дестимулирует.
При этом остается фактор неопределенности, связанный с внешнеполитической ситуацией. Сейчас мы наблюдаем за разворачиванием торговой войны между Китаем и США. И непонятно, чем это противостояние закончится. Пока больше похоже на торговлю условиями, причем с быстрым выходом на новые договоренности.
В какой степени продолжится санкционное давление на Россию, тоже пока сказать никто не может.
— За какими параметрами экономического развития стоит следить в этом году?
— В центре внимания, конечно, остается денежно-кредитная политика. Но я бы еще отслеживал состояние расчетов. Есть вероятность роста неплатежей при высокой ставке. У одних исполнителей в производственной цепочке может не оказаться денег в моменте, а кредитные ресурсы слишком дорогие, чтобы их привлекать для текущего финансирования. При этом другие компании, может быть, и будут располагать ресурсами, но у них мало стимулов, чтобы расплачиваться вовремя. Потому что сейчас каждый день приносит довольно заметный пассивный доход. Поэтому компании, в достаточной степени обеспеченные денежными средствами, могут перенаправить их из производственного оборота на срочные депозиты, одновременно наращивая свою задолженность перед поставщиками. Вкупе с ростом процентной нагрузки растет риск волны корпоративных банкротств. Впрочем, правительство сейчас внимательно следит за ситуацией, так что острого кризиса, думаю, можно будет избежать.