Как не дать затухнуть экономическому росту в России
Эксперты назвали сценарии развития российской экономики в 2025 году

Коллаж Дмитрия Макурина
Чтобы экономика не скатилась в рецессию, нужно в конструктивном диалоге регуляторов с экспертным сообществом проработать альтернативные варианты долгосрочного развития
Экономика России входит в новый год с высокой степенью неопределенности.
Да, Россия выдержала первый санкционный удар в 2022 году, а затем смогла перестроить свою экономику. Но похоже, что факторы поддержки исчерпаны. Что послужило основой внушительного роста предыдущих двух лет и каков может быть дальнейший сценарий? Эта тема стала предметом дискуссии пленарной сессии международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен»*.
В прошлом году, напомним, валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на внушительные 3,6%. В этом году прогноз Минэкономразвития предполагает рост российской экономики на 3,9%.
Большая часть экспертов считает, что ключевым фактором двухлетнего роста стало перераспределение инвестиций от уходящих западных компаний. Российский бизнес смог вполне успешно освоить новые ниши, реализовав программы быстрого импортозамещения.
Другой значимый фактор — высокий уровень бюджетных расходов в целом, и в том числе на инфраструктурное и жилищное строительство. Это поддержало внутренний спрос.
Масштабы бюджетного стимулирования были значительны. За 2022–2024 годы правительство порядка 11% ВВП направило на дополнительное финансирование экономики из Фонда национального благосостояния.
Однако похоже, на этом сильный рост и выдохся. Власти и аналитики убеждены, что в следующем году экономику ждет охлаждение. Минэкономразвития считает, что ВВП по итогам 2025 года вырастет на 2,5%. Банк России еще более пессимистичен: регулятор прогнозирует динамику ВВП в диапазоне всего от 0,5% до 1,5%.
Побочные эффекты стимуляторов
По мнению экономистов, ключевым фактором торможения станет снижение расходов: бюджет на 2025 год сверстан более жестким. Профессор МГУ Наталья Зубаревич назвала период 2022–2024 годов в российской экономике «эпохой жизни на стероидах».
«А когда заканчивается жизнь на стероидах, всегда начинаются ломки», — объясняет Зубаревич фактор охлаждения.
По ее наблюдениям, этот процесс уже пошел, хотя в разрезе регионов картина и контрастная. На Урале снижается динамика промышленности в Свердловской и Челябинской областях, но продолжается рост выпуска в Курганской области, в основном благодаря финансированию оборонного заказа.
Денежно-кредитная политика лишь ограниченно действует в отношении снижения инфляции
Особенно заметно, по мнению экономиста, будет сжиматься сектор жилищного строительства: «Потому что стероид в виде льготной ипотеки поломал рынок, и теперь мы за это платим, не бывает стимуляторов без побочных эффектов» (см. «Стройка вошла в прогнозируемый кризис», стр. 38).
По данным за январь–сентябрь 2024 года сектор жилищного строительства в целом по стране показал рост всего на 1,6%. А в Москве и Санкт-Петербурге снижение уже на треть и на четверть соответственно.
«К этому надо приспосабливаться. Бывают экономические периоды, когда переть не надо. Надо оглянуться и подождать», — призывает экономист девелоперов.
Изменения, вероятно, коснутся и уровня жизни граждан. До сих пор высокий потребительский спрос поддерживали доходы населения, которые опять же обеспечивал в том числе и федеральный бюджет. В январе–августе 2023 года заработные платы в стране выросли на 14,5%, в тот же период 2024 года — уже на 18%.
Но по данным за второй квартал, в шести федеральных округах из восьми динамика уже хуже, чем в первые три месяца. В этом отношении, по мнению Зубаревич, нас тоже ждет ломка.
«Первые жертвы — пенсионеры. Их реальные пенсии с четвертого квартала 2023 года снижаются. И в третьем квартале этого года тренд еще больше ускорился. Пострадают и работники бюджетных организаций, которым последний раз индексировали зарплаты в 2023 году», — считает экономист.
По ее мнению, сжатие стимулов со стороны бюджета, таким образом, затронет многие направления, исключением остается сектор ОПК.
«Всем придется переформатироваться. Это будет болезненный и непростой период», — прогнозирует Зубаревич.
Нефть под давлением
Российская экономика в последнее время и так довольно сильно перестроилась. Но несмотря на рост обрабатывающих секторов, основную часть доходов обеспечивает нефтяная отрасль. А значит, мировая сырьевая конъюнктура остается важнейшим элементом стабильности бюджетной политики.
По словам президента Института энергетики и финансов Марселя Салихова, с начала этого года цены на нефть понизились на 10–12%. И предпосылок для роста цен на мировом рынке нет.
«Это связано с тем, что в мире достаточно много свободных мощностей по добыче нефти. И факторы, которые мы раньше принимали в расчет, прогнозируя цену на нефть, сейчас не оказывают решающего влияния. Это, в частности, геополитические конфликты или рост производства сланцевой нефти в США», — отмечает эксперт.
К тому же ценообразование для российской нефти отличается наличием скидки потребителям от мировой цены.
«Дисконт сейчас составляет 12%, и он наполовину состоит из логистических факторов. Во-первых, в Китай и Индию доставлять нефть получается дольше, чем раньше в Европу, во-вторых, нужно компенсировать нашим партнерам их риски», — объясняет Салихов.
При этом физические объемы добычи будут снижаться из-за выполнения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. По оценкам Марселя Салихова, по итогам этого года добыча снизится примерно на 3%: «На ближайшие годы большого роста производства ожидать не стоит. И это влияет в том числе на развитие российского сектора нефтесервисных услуг. Нефтяным компаниям будет достаточно уже имеющихся мощностей, они не станут инвестировать в новые проекты или начнут их сдвигать по срокам».
Кадры ждут пополнения
Реализацию инвестиционных программ нефтяников, как, впрочем, и других отраслей, осложняет жесткая ситуация на рынке труда. Рост экономики на 3–4% в последние два года привел к исчерпанию трудовых ресурсов.
Согласно данным опроса РСПП, в 2023 году недостаток квалифицированных кадров вышел на первое место в списке проблем бизнеса, об этом сказали 68% работодателей. При этом 83% указали на проблему дефицита кадров в своих компаниях.
По словам генерального директора Национального агентства развития квалификаций Артема Шадрина, работодатели реагируют на этот вызов двумя способами: «Во-первых, многие развивают корпоративные университеты, программы дополнительного профессионального образования (ДПО) и внутрифирменного обучения. Во-вторых, выстраивают работу с вузами и колледжами. Компании стремятся максимально адаптировать содержание образовательных программ для конкретных целей их бизнеса».
В текущей ситуации это, возможно, и позволит частично снять остроту кадрового вопроса, но на долгосрочном горизонте многое зависит от демографических факторов.
«Если в 2006 году на рынок труда вышло 2 млн 600 тысяч человек в возрасте 18 лет, то начиная с 2014 года состав этой возрастной категории устойчиво снижается, и сейчас она — меньше 1,5 млн человек. То есть почти каждый год у нас в два раза меньше выходило на рынок труда новых людей. До 2033 года мы ждем прироста на 20%, но людей все равно будет меньше, чем в 2006 году. То есть общий дефицит кадров будет накапливаться, и это обуславливает возрастающую конкуренцию на рынке труда со стороны работодателей», — констатирует Шадрин.
Инновациям нужна перезагрузка
В последнее время одним из инструментов решения кадровой проблемы рассматривается более интенсивное применение технологий. Впрочем, от технологического развития зависит и в целом вся экономика.
По мнению директора по экономической политике НИУ ВШЭ Юрия Симачева, на первом этапе после закрытия для России европейских рынков российские компании довольно неплохо использовали инструмент реинжиниринга: «В отношении относительно простых технологий компании нашли решения».
А вот над созданием сложных технологий, требующих применения научных знаний, еще предстоит поработать.
России нужно перестраивать инновационную систему с линейной на матричную
Юрий Симачев считает, что в этом вопросе не стоит опираться исключительно на свои силы: «Нужно определить, в отношении каких технологий мы обладаем собственными компетенциями. Но даже если мы выделим такое ядро, мы не можем быть компетентными по всем направлениям».
Поэтому, по мнению эксперта, надо определить перечень технологий, развитие которых следует максимально активно стимулировать: «Дело в том, что наше успешное импортозамещение было преимущественно товарным. Освоение нового производства почти не сопровождалось расширением технологических знаний».
Для ответа на этот вызов, по мнению Симачева, нужно идти двумя путями: «Во-первых, обеспечивать приток технологий извне, в том числе и за счет стягивания в страну лучших мировых научных кадров».
Параллельно с этим нужно перестраивать инновационную систему: «У нас эта система линейная, она предполагает четкую последовательность: наука — коммерциализация – разработки. Во всем мире уже давно сложилась матричная, более живая модель. В такой системе связи возникают на уровне небольших организаций, лабораторий, малого и среднего бизнеса. В этом случае инновации возникают через взаимодействие».
Кроме того, нужно учитывать тот факт, что в разных секторах драйверы отличаются. Где-то это могут быть крупные корпорации, а где-то — стартапы: «Но стартапы эффективны в масштабах макроэкономики, когда их очень много. Единичные успешные примеры стартапов в области искусственного интеллекта у нас есть, но надо увеличивать количество и снимать барьеры развития».
Регион в тисках фискалов
В этом и других вопросах необходимы инструменты на федеральном уровне. Финансовые возможности регионов ограничены. И в этом отношении, по мнению директора Института реформирования общественных финансов Владимира Климанова, тоже большой уровень неопределенности: «У регионов всегда было гораздо меньше возможностей бюджетного маневра. У субъектов Федерации основные источники собственных доходов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль. На НДФЛ сложно влиять, хотя он в этом году значимо растет, а поступления от налога на прибыль крайне непредсказуемы. Со следующего года нас ждут изменения налогового законодательства. При этом сумма от повышения НДФЛ и налога на прибыль полностью пойдет в федеральный бюджет».
По мнению Климанова, регионы скорее проиграют от повышения налогов, поскольку целый ряд налогоплательщиков окажутся уязвимы к росту налоговой нагрузки: «В частности, сложнее придется секторам, связанным с внутренним туризмом, предприятиям сферы досуга».
При этом еще и объемы межбюджетных трансфертов регионам сокращаются. Не вырастут объемы дотаций и субсидий.
«То есть по-прежнему регион остается под административным давлением фискальных инструментов. Бюджетный импульс в части поддержки со стороны федерального бюджета отдельных отраслей промышленности будет затухать. Увеличиваться, скорее всего, будут только расходы социального характера, поскольку накоплены обязательства, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей», — прогнозирует Климанов.
Стагнация — уже реальность
Но, пожалуй, самая главная угроза в следующем году связана с ростом стоимости кредитных ресурсов. Экономисты еще летом предупредили о рисках скатывания экономики в стагфляцию по этой причине. Стагфляцией считается состояние экономики, в котором наблюдается высокая инфляция и одновременно отсутствует рост производства.
Еще недавно казалось, что такой сценарий маловероятен. Однако расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) показали, что в России уже четвертый месяц наблюдается стагнация физических объемов промпроизводства.
Заместитель генерального директора ЦМАКП Владимир Сальников считает некорректным сравнивать данные с уровнем прошлого года, чем обычно оперируют политики и аналитики: «В этом случае сработает эффект низкой базы предыдущих 12 месяцев, и в результате мы получаем высокие темпы производства. Более показателен анализ динамики месяц к месяцу с устранением сезонного фактора. А этот анализ говорит, что мы уже перешли к стагнации».
Тренд виден в отношении не только производства, но и заработных плат, они тоже уже замедляют рост.
К числу основных факторов перехода к стагнации промышленного выпуска Владимир Сальников относит прекращение роста госрасходов, дефицит кадров и высокую стоимость кредита.
С последним аргументом категорически не согласен Центробанк. Одной из причин роста инфляции считается недостаток предложения. А это, по мнению ЦБ, связано с ростом загрузки мощностей.
Основные факторы перехода к стагнации промышленного выпуска — прекращение роста госрасходов, дефицит кадров и высокая стоимость кредита
Владимир Сальников в качестве аргумента на этот тезис приводит данные опроса Росстата среди предприятий обрабатывающей промышленности: «Предприятия не указывают мощности как фактор, ограничивающий выпуск. Но при этом в два раза, с 20% до 40%, выросла доля тех, кто назвал высокий процент кредита в качестве главного ограничителя роста производства».
Эксперты уже давно говорят об угрозе сворачивания инвестиций из-за роста ключевой ставки. Но Центробанк считает, что уже накопленного уровня капиталовложений за прошлые годы достаточно для расширения производственных мощностей. ЦБ в этом случае приводит статистику инвестиций в основной капитал.
«Банк России игнорирует тот факт, что масштабы расширения мощностей определяют не общие капиталовложения, а объем инвестиций в машины и оборудование. А этот показатель за 2022–2023 годы сократился на 8%. И после повышения ключевой ставки картина стала еще более удручающей», — отмечает Сальников.
Из-за роста ставки, по оценкам ЦМАКП, вырастет и число компаний, которые будут испытывать затруднения с обслуживаем долга. Даже в пищевой промышленности, которая в целом считается успешной, проблемы могут быть ощутимы.
Чтобы предотвратить сценарий стагфляции, по мнению экспертов ЦМАКП, ключевая ставка ЦБ к середине 2025 года должна быть снижена примерно до 15–16%, а прогноз ЦБ предполагает среднее значение ставки в этот период на уровне 17–20%.
Банк России объясняет свою политику стремлением удержать страну от роста инфляции (см. «Центробанк просит понять», «Э-У» №12 от 25.11.2024).
Ориентир ЦБ, напомним, — уровень инфляции в 4% в 2026 году. И регулятор стремится к этой цели несмотря ни на что. При этом эффект от повышения ключевой ставки на инфляцию в текущей ситуации является слабо выраженным.
«Можно констатировать, что денежно-кредитная политика лишь ограниченно действует в отношении снижения инфляции, но при этом она несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии. Это создает предпосылки для разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов, прежде всего в машиностроении», — констатируют в ЦМАКП.
Более того, по оценкам ЦМАКП, проинфляционный эффект ставки от быстрого ее повышения в 2024 году оказывается минимум в полтора раза сильнее, чем проинфляционный эффект быстрого роста заработных плат.
В этой связи некоторые эксперты предлагают отказаться от политики таргетирования инфляции, если уж все равно не получается. Или, по крайней мере, повысить сам таргет по инфляции (например, до 6%). Но оппоненты тут же все вспоминают Турцию с ее 70%-й инфляцией. Вопрос непростой, и он требует обсуждения. Но диалога пока не получается.
«Разные ведомства в следующем году будут принимать свои решения, а уровень договоренности очень низкий. Каждый отрабатывает свою точку зрения, не более. Нет попытки послушать другого», — ставит проблему Владимир Сальников.
По его словам, в рамках экспертного сообщества нет площадки, где можно было бы эти вызовы конструктивно обсуждать: «Хотя именно у Центробанка есть сильные экспертные возможности, а эта дискуссия необходима. Страна стоит перед серьезным выбором. Прежние факторы поддержки экономики уже не работают. Нужно на долгосрочном горизонте пытаться разработать альтернативные варианты развития экономики».
* Конференция организована Институтом экономики и управления УрФУ, Уральским федеральным университетом, АЦ «Эксперт» и журналом «Эксперт-Урал»
|
|
|

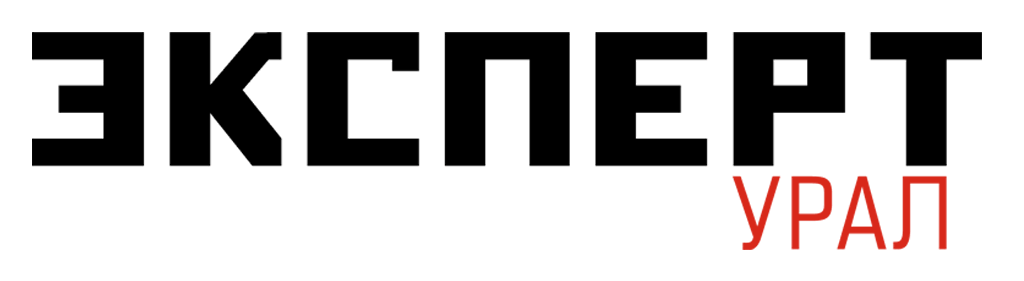
 Как закрепить лидерство в Африке
Как закрепить лидерство в Африке Необходима смена приоритетов
Необходима смена приоритетов  Время сберегать и инвестировать
Время сберегать и инвестировать