Не тормозим
Экономика России завершает 2023 год лучше ожиданий. Что дальше?

Фото Дмитрий Макурин
Рост экономики в следующем году поддержат бюджетный стимул, промышленность и экспорт, но разогнаться не позволят инфляция и критическая ситуация на рынке труда
Экономика России завершает 2023 год лучше ожиданий. Вероятно, статистика зафиксирует рост ВВП на уровне 3%. Одним из ключевых факторов стал бюджетный стимул. Государственные расходы поддержали как спрос на промышленные товары и услуги компаний, так и уровень доходов граждан. Для некоторых отраслей импульс дает импортозамещение. Под влиянием этого стимула растет производство мебели, одежды, продуктов питания. Удастся ли закрепить этот тренд в 2024 году?
Варианты развития российской экономики ведущие экономисты обсуждали вместе с бизнесом на пленарной сессии конференции «Российские регионы в фокусе перемен»*.
Разворота тренда в следующем году никто не ожидает: прогнозы предполагают дальнейший рост ВВП.
— Во-первых, экономика инерционна. Если вы разогнались, то быстро не затормозишь. Во-вторых, драйверы 2023 года во многом будут работать и дальше, — объясняет главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
Правда, в параметрах роста ведомства и аналитики расходятся. Наиболее оптимистичен Минэкономразвития, его прогноз на 2024 год предполагает рост 2,3%, ориентир ЦБ — 1%, Альфа-Банка — 0,8%, института ВЭБ.РФ — 1,6%.
Стойкий промышленный солдатик
Большинство аналитиков верит в российскую промышленность. Она стойко держалась и в период санкционного кризиса, и во время фазы восстановления. Правда, драйверы периодически меняются. По расчетам профессора МГУ Натальи Зубаревич, в 2022 году промышленный сектор выдержал удары санкционного давления благодаря добывающим отраслям. Гораздо хуже тогда себя ощущала обработка. В этом году, по оценке экономиста, добыча перестала держать промышленную динамику: «В первом полугодии 2023 года обработка, наоборот, показала рост на 7,1%, тогда как добыча снизилась на 1,2%. Основной вклад в рост обрабатывающих секторов вносит машиностроение, а точнее, оборонно-промышленный комплекс».
Андрей Клепач, однако, считает, что роль ОПК не является доминирующей: «Мы видим существенный рост и гражданской продукции тоже. Я, честно говоря, не стал бы «хоронить» наш автопром. Да, отрасль пережила шок из-за санкций и приостановки поставок комплектующих. Но в этом году производство легковых автомобилей выросло на 3%, а сектор грузовой техники показывает еще более внушительную динамику. И это произошло благодаря спросу на технику со стороны ОПК и строительного сектора. Автомобилестроение, несмотря на все проблемы, является самой крупной отраслью машиностроения. Потому нам предстоит выстроить в отношении этой отрасли правильную политику, не повторяя предыдущих ошибок, и использовать шанс для возрождения производства».
Другой сектор, на который можно опираться, по мнению Клепача, — пищевая промышленность. Импульс переработке продуктов питания дает растущий АПК: «Сельское хозяйство в целом, на мой взгляд, это наше достижение за последние 11-12 лет, это гарант стабильности экономики. В отличие от обрабатывающих отраслей, которые то растут, то падают, сельское хозяйство показывает постоянную положительную динамику, а его вклад в ВВП уже составляет 5,7%, это весомая доля».
Основания для оптимизма дают также государственные программы развития отдельных отраслей. Серьезный сдвиг, в частности, ожидается в развитии электронной и радиоэлектронной промышленности. Заявленный объем инвестиций в сектор составляет порядка 300 млрд рублей. В фокусе внимания государства находится и станкостроение: сектор опирается на федеральный проект в области развития станкостроения и робототехники.
Андрей Клепач полагает, что по-прежнему будет давать импульс экономике и инфраструктурное строительство, поскольку правительство пока не намерено сворачивать финансирование этого направления.
А вот в отношении жилищного строительства как драйвера роста у экспертов есть большие сомнения.
— У нас сформировался большой пузырь, основанный на льготном кредитовании, и он однозначно будет сжиматься. Лопнуть ему не дадут, но рассасывать будут, — считает Наталья Зубаревич.
А раз так, значит, сильным драйвером сектор жилищного строительства уже не будет. И именно в 2024 году, по мнению экономиста, стоит ожидать очень больших изменений в этой отрасли:
— Если оставить все льготные программы, нагрузка на бюджет будет расти.
К тому же государство уже пришло к выводу о том, что происходит искажение рыночных стимулов. В этой ситуации прежние инструменты не работают. В частности, повышение ключевой ставки никак не влияет на инфляцию, поскольку этот рычаг не распространяется на льготные кредитные программы. Это неправильный структурный сдвиг, — убеждена Наталья Зубаревич.
Потребительский драйв выдыхается
И тем не менее в целом можно говорить о том, что промышленный сектор будет и дальше формировать траекторию роста. А вот в отношении потребления такой уверенности нет.
По мнению Натальи Зубаревич, об этом говорит динамика розничной торговли.
В 2022 году торговый ритейл снизился на 7%, непродовольственный — на 11%. В этом году началось быстрое восстановление, в июле — августе торговля выросла в среднем на 10-12%, а непродовольственная — аж на 17%. Но уже сентябрь стал хуже августа почти во всех регионах.
— Испугавшийся потребитель удовлетворил отложенный спрос, а дальше начинается сжатие из-за ослабления рубля, роста цен на импортную продукцию и повышения кредитных ставок. Поэтому мы можем говорить о завершении потребительского бума, — предполагает Наталья Зубаревич.
По мнению некоторых экспертов, норма потребления будет оставаться пониженной. Люди не хотят тратить больше. Это показывают многочисленные опросы. Потребители в текущих условиях скорее склонны удлинять срок службы, в частности, бытовой техники или машин, чем приобретать новые товары. Это связано с повышенным уровнем неопределенности, что заставляет людей не направлять много на текущее потребление.
При этом норма сбережений, наоборот, повышается. Об этом говорит динамика средств на банковских вкладах, счетах-эскроу, наличных средств, переводов за рубеж и вложений в ценные бумаги. Если в прошлом году на депозиты люди направляли 3% трудового дохода, то в сентябре этого года — уже 10%, в наличные деньги уходило 2% и 10% соответственно.
Экспортный разворот
Существенные изменения произошли и в реализации экспортного потенциала. В целом Россия остается крупнейшим поставщиком углеводородов на глобальном рынке. Однако при анализе возможностей этого драйвера роста следует принимать во внимание новые факторы. На них обращает внимание Андрей Клепач.
— Это кардинальное изменение позиции России на глобальном рынке газа. Из-за ограничений поставок трубопроводного газа на европейские рынки Россия практически теряет этот источник экспортного дохода. В 2018 — 2019 годах объемы измерялись цифрами 180 млрд кубометров газа, в этом году, по экспертным оценкам, будет в лучшем случае 40 млрд кубометров, — ставит проблему экономист.
В этой ситуации логичным решением выглядит переориентация потоков на Восток, но для этого нужно строить дополнительную транспортную инфраструктуру. Безусловно, России стоит наращивать экспорт сниженного природного газа (СПГ), но тут опять же нужны инвестиции в технологии доставки такого продукта.
Поэтому многие эксперты считают, что в дальнейшем драйвером роста экспорта ни нефть, ни газ уже не будут.
А вот уголь не сдает своих позиций. Несмотря на экологическую повестку Европы, в целом спрос на этот энергоноситель не снижается.
— Его потребление в странах Азии, наоборот, растет. Спрос есть в Китае, Индии, Африке. Поэтому Россия будет достаточно сильным игроком на рынке угля, — считает Клепач.
Но здесь опять же барьером являются наши транспортные коридоры: отправки угольной продукции на экспорт сдерживают ограниченные возможности железнодорожного транспорта.
Однако концентрироваться только на экспорте энергоносителей не стоит. Нужно наращивать и другие компетенции в области внешней торговли. В частности, по мнению Андрея Клепача, Россия могла бы увеличить свое присутствие на глобальном аграрном рынке: «Мы — крупнейшая страна в мире по производству пшеницы. Но реализовать этот потенциал мы не можем из-за ограниченных портовых мощностей. К тому же у нас нет зерновых кораблей, а зерновозы все иностранного производства. Хорошо, что мы запустили процесс производства такой техники у себя. Да, возможно, это будет дороже, но это необходимый шаг».
Китайская шкатулка
Ограничения появляются не только технические. России приходится пересматривать пул иностранных партнеров. Ключевым считается Китай, и это действительно так.
— Объемы торговли впечатляющие, но структура российско-китайской торговли во многом сохраняет черты 90-х годов. Мы продаем нефть и газ, а закупаем машинно-техническую продукцию, — отмечает директор Института стран Азии и Африки МГУ, известный востоковед Алексей Маслов.
Российские предприниматели пытаются предложить другие товары. Но при выходе на рынок Китая бизнес, по мнению Маслова, нередко допускает ошибки.
— В Китае происходит много изменений, иногда позитивных, иногда негативных. Но проблема России в том, что мы не умеем быстро отслеживать эти изменения и оперативно ими пользоваться, — объясняет востоковед глубинные причины ошибочных решений.
По мнению Алексея Маслова, китайский рынок очень емкий, но он сильно мигрирует в онлайн: «В этой стране активно развивается электронная коммерция. Дистанционно в Китае продается все — от краски для волос до нефти. А многие российские компании первым делом пытаются найти торговых партнеров в Китае. Но такая стратегия была актуальна пять-шесть лет назад. Сегодня единственно правильное решение — это вывод российской продукции на китайские электронные платформы через создание своего представительства в Китае или выход на платформы с помощью посредников. Теперь главная задача заключается не в том, чтобы найти одного или нескольких дистрибьюторов российской продукции, а в том, чтобы правильно подать продукцию, используя технологии электронной коммерции и возможности социальных сетей. Так делает подавляющее большинство японских, австралийских, новозеландских компаний. А российские компании не владеют информацией, как эта модель работает».
Безусловно, нужно искать перспективные ниши. По мнению Алексея Маслова, в Китае есть несколько быстрорастущих секторов, которые продолжат расти в ближайшее время. И все они связаны с инновациями: «Китай всегда пытается сотрудничать в секторах, которые дают очевидную прибавку в инновационности. А мы в этом отношении проигрываем, потому что выходим с продукцией, которая является по большей части сырьевой».
По этой причине российские компании для Китая не являются значимыми партнерами.
— Проблема заключается в том, что Россия слишком поздно выходит на китайский рынок. Многие страны опережают нас в части сотрудничества в инновационной сфере, — считает востоковед.
Чтобы быстрее сократить этот разрыв, по мнению Маслова, необходимо повышать уровень экспертного обеспечения: «У нас он очень низкий, к сожалению. В России не сложилось серьезных лоббистских структур, ассоциаций, которые бы работали с Китаем. Поэтому большинство российских компаний пытаются выйти напрямую, на этом пути они набивают шишки и теряют время».
Африканский фокус
С тем, что Россия несколько запаздывает в части выстраивания отношений с Китаем, согласен научный руководитель НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей Васильев. Однако, по его мнению, в части экспортных возможностей стоит посмотреть шире.
— Мы считаем, что стоит обратить внимание на группу стран Южной Азии и Африки. В этих регионах в ближайшее время будет бурный экономический рост, основанный на индустриализации. В этой ситуации продукция российской обрабатывающей промышленности может найти широкое применение, не говоря уже о продукции сельского хозяйства, — отмечает Сергей Васильев.
Проблема в том, что регион Южной Азии является для России еще менее изученным, чем Китай: «Мы более-менее знаем Индию, но рядом есть еще две большие страны — Бангладеш и Пакистан, где наше присутствие минимально. На самом деле есть масса интересных возможностей участия в экономическом развитии этих стран».
Еще более сложная проблема информированности, по мнению Сергея Васильева, в отношении Африки, потому что политическая карта Черного континента фрагментирована: «В этом регионе перспективы открываются для некрупных российских компаний обрабатывающей промышленности. По нашему мнению, этот рынок прекрасно могли бы освоить средние предприятия, в том числе и технологические. Но в этом случае необходима скоординированная работа на федеральном и региональном уровнях. Потому что без федеральной поддержки, я думаю, выход на рынки стран Африки будет очень затруднительным».
Ставки и люди
Как видим, факторы роста, на которые можно опираться в следующем году, есть. Но они будут работать в новом макроэкономическом поле. Россия входит в 2024 год с достаточно жесткой монетарной политикой. Есть большие сомнения, что Центральному банку будет легко вернуть инфляцию к цели 4%.
При этом совершенно очевидно, что подавление инфляции будет сопряжено с некоторым замедлением экономического роста.
Текущая ситуация сильно отличается. Раньше монетарная и бюджетная политики были направлены совместно на замедление инфляции. В 2024 году бюджетная политика по-прежнему останется стимулирующей, а вот монетарный курс должен будет сдерживать структурные и конъюнктурные инфляционные риски. И это будет частью экономического контекста.
Но самым болезненным ограничением для экономического роста будет жесткая ситуация на рынке труда. Номинальные зарплаты за восемь месяцев 2023 года выросли на 13,2% в годовом исчислении. Критическая нехватка кадров приводит к росту затрат компаний на персонал и, соответственно, к увеличению себестоимости. Особенно болезненным этот фактор будет для компаний, которые работают в рыночных сегментах.
При этом проблема дефицита трудовых ресурсов находит двойное проявление: на микроуровне нехватка кадров является ограничителем для роста, а на макроуровне — источником инфляционных рисков.
И никаких кардинальных изменений в среднесрочной перспективе не произойдет.
— Критическая ситуация на рынке труда — это надолго. Если у кого-то есть иллюзия, что надо потерпеть пять лет и будет какой-то подскок рабочей силы, то придется от нее избавиться. Демографическая ситуация не изменится. Это принципиальный тренд, который приведет к трансформации всей модели развития. Российская экономика 20 лет существовала в условиях демографической ренты, но это время прошло, — предупреждает проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.
Не будут работать и уже все опробованные инструменты решения проблемы на рынке труда. По мнению Сергея Рощина, не стоит рассчитывать, что старшее поколение за счет увеличения пенсионного возраста заменит молодое: «Потому что квалификация старших возрастов совершенно другая. Это не значит, что совсем не надо распоряжаться этим человеческим капиталом. Но использовать его как источник развития на волне технологических изменений не получится».
Другой источник — миграция — тоже не даст большого эффекта, по мнению экономиста: «Мы практически вышли на абсолютный предел нашего позиционирования на мировом рынке миграции. По сути дела, наша миграция — это две страны — Узбекистан (на его долю приходится 43% миграционного потока) и Таджикистан (23,9%). Особенность в том, что мы можем использовать миграционный поток только людей, владеющих русским языком».
Вот и получается, что никакого серьезного источника, чтобы заместить человеческие ресурсы, сейчас нет.
Сергей Рощин в этой ситуации видит один выход — технологическое обновление, которое приведет к существенному снижению трудоемкости: «Нужно перестать инвестировать в проекты, которые постоянно требуют человеческих ресурсов. Инвестиции возможны только при обязательном снижении трудоемкости. Никакие другие государственные деньги, на мой взгляд, никуда не должны идти, кроме как на подобные проекты. Специалисты на рынке труда говорят об этом уже не первый год, но в силу инерционности мышления только сейчас к нам стали прислушиваться».
По мнению Сергея Рощина, необходимо менять и подходы к развитию человеческого капитала: «Придется вкладывать не только в реформирование системы образования, но и в подготовку и переподготовку. Потому что технологическое обновление будет постоянно требовать формирования микроквалификаций и непрерывного обучения. Это несколько другая стыковка образования и рынка труда».
|
|
* Конференция организована Институтом экономики и управления Уральского федерального университета, Уральским федеральным университетом, АЦ «Эксперт» и журналом «Эксперт-Урал».

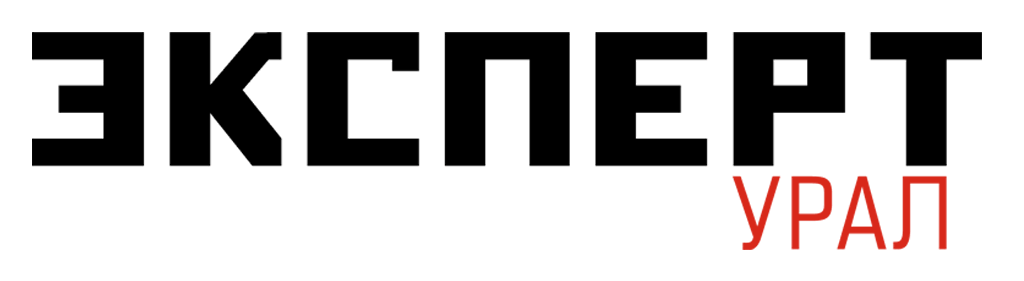
 Шанс на прорыв
Шанс на прорыв Время нетривиальных решений
Время нетривиальных решений